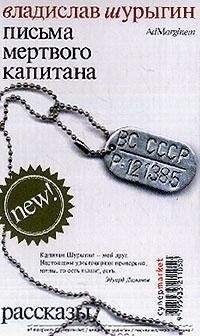Джоанн Харрис - Пять четвертинок апельсина
Кофе все еще кипит на плите. Его горький запах будит воспоминания: запах черных жженых листьев с привкусом дымка от пара. Я, как жертва потрясения, пью очень сладкий. Мне кажется, я начинаю понимать, что чувствовала моя мать: неистовость высвобождения, желание все забыть.
Все разъехались. Девушка с миниатюрными магнитофонами, с кучей пленки, фотограф. Даже Писташ по моему настоянию отправилась домой, хотя я и сейчас чувствую тепло ее объятия, последнее прикосновение ее губ к моей щеке. Покладистая моя девочка, на целую вечность заброшенная мной ради другой, непокорной. Но люди меняются. Наконец я почувствовала, что теперь могу разговаривать с вами, дикарка моя Нуазетт, моя нежная Писташ! Теперь я могу вас обнять и больше не чувствовать при этом, что меня засасывает трясина. Матерая на сей раз определенно мертва; настал конец ее проклятию. Никакой катастрофы не произойдет, если я возьму и осмелюсь вас любить.
Когда вчера поздно вечером я позвонила, трубку взяла Нуазетт. Я узнала свои интонации — свои натянутость, сдержанность. Представила, что она, как и я, подалась вперед, настороженное выражение на узком лице; то, как она облокотилась на кафельную поверхность стойки бара. Тепла в ее словах, пробивающихся через мили холода и впустую канувших лет, немного; но временами, когда она заговаривает о своей дочке, мне кажется, я улавливаю что-то в ее голосе. Какую-то зарождающуюся теплоту. И мне становится радостно.
Думаю, в свое время я ей все расскажу; не сразу, приручая помаленьку. Не беда, могу и потерпеть; уж что-что, а это я умею. В каком-то смысле ей эта история нужней, чем кому бы то ни было, — уж гораздо нужней, чем публике, охочей до скандалов, — даже нужней, чем Писташ. Писташ незлобива. Она принимает людей открыто и по-доброму такими, какие они есть. Но Нуазетт нужно все рассказать, это и для ее дочки Пеш пригодится, чтобы призрак Матерой не объявился вдруг в один прекрасный день. У Нуазетт свои кошмары. Но хочется надеяться, что я уже не в их числе.
Теперь, когда все ушли, дом кажется до странности пустым и необитаемым. Сквозняком водит пару сухих листьев по плиточному полу. Но я почему-то чувствую, что не одна. Глупо вообразить, что в этом старом доме задержались какие-то призраки. Я уже столько здесь живу, и ни единого намека на их присутствие не было, и все же сегодня я чувствую… кто-то есть там, в глубине, в тени, чувствую чье-то молчаливое присутствие, незаметное и даже какое-то почтительное, выжидающее…
Мой голос неожиданно резко прорвал тишину:
— Кто здесь? Кто здесь, я спрашиваю?
И отдался металлом, отразившись от голых стен.
Он вышел на свет, и, увидев его, я чуть не расхохоталась и не расплакалась одновременно.
— Вкусно кофе пахнет, — сказал он, как всегда, негромко.
— Господи, Поль! Как тебе удалось так тихо войти?
Усмехнулся.
— Я думала, ты…
— Много думать вредно, — просто сказал Поль, направляясь к плите.
Тусклый свет лампы позолотил его лицо, обвислые усы придавали ему скорбное выражение, не вяжущееся с шустринкой в глазах. Я попыталась представить, много ли он успел подслушать из моего рассказа. Отсиживаясь вот так в тени. Я и забыла, что он тут.
— Болтать тоже, — заметил он добродушно, наливая себе кофе. — Боялся, едва ты завела, что и в неделю не управишься.
И бросил на меня быстрый насмешливый взгляд.
— Нужно было, чтоб они поняли, — сухо сказала я, — чтобы Писташ…
— Люди соображают гораздо быстрей, чем ты думаешь. — Он шагнул ко мне, приложил руку к моей щеке. От него пахло кофе и застарелым табаком. — Зачем надо было столько лет все в себе носить? Что хорошего выносила?
— Было… такое… что никак не выскажешь, — дрогнувшим голосом сказала я. — Ни тебе, ни кому другому. Думала, тогда все прахом пойдет. Тебе не понять, с тобой такого никогда не…
Он засмеялся по-простому, миролюбиво.
— Эх, Фрамбуаз! Вот уж не ожидал! Ты думаешь, я не знаю, что такое тайну хранить? — Он сжал мою грязную руку в своих. — Неужто я дурень такой, что и тайн у меня нет?
— Да нет же, я не хотела… — поспешила оправдаться я.
Да, да. Господи, прости, именно так я думала.
— Воображаешь, будто ты одна способна ношу тянуть, — продолжал Поль. — Ты меня послушай. — Он вдруг, как в прежние времена, заговорил непонятно, и в некоторых шатких словах даже пробивалось его прежнее заикание. Отчего он даже как-то сразу помолодел.
— Помнишь, Буаз, те анонимные письма, а? Безграмотные такие? А надписи на дверях амбара?
Я кивнула.
— Помнишь, как она п-прятала письма, когда ты вошла? Помнишь, что ты по ее лицу поняла и по всему ее виду, как она испугалась, и разозлилась, и озлобилась, ведь так оно и было, и как ты ненавидела ее в те дни, так ненавидела, что прямо убить была готова?
Я кивнула.
— Это все я, — просто сказал Поль. — Я их писал, все, какие были. А ведь ты даже не знала, что я могу писать, верно? Какую же я подлость тогда совершил всеми этими своими письмами. Это чтоб отомстить. Потому что она обозвала меня кретином тогда, при тебе, при Кассисе и Рен-К-к-к…
Лицо Поля исказилось от нахлынувшей боли, он весь залился краской.
— При Рен-Клод, — докончил он уже спокойно.
— Я понимаю.
Ну да. Как всякая загадка: так все очевидно и просто, когда узнаешь ответ. Я вспомнила, какая у него делалась физиономия в присутствии Ренетт, как он краснел, запинался и под конец смолкал, хотя при мне он говорил почти нормально. Я вспомнила вспыхнувшую в его глазах неприкрытую, лютую ненависть в тот день — «Кретин, говорить не можешь по-человечески!» — и его жуткий вой, полный горя и ярости, летевший через поля. Я вспомнила, с каким порой выражением крайней сосредоточенности он разглядывал комиксы Кассиса — Поль, который, как мы все были убеждены, не способен ни слова прочесть. Вспомнила, как оценивающе взглянул он на протянутый мной разрезанный апельсин, и то странное чувство на реке, будто кто-то следит, — даже в тот последний раз, в самый последний день с Томасом, даже тогда, Господи, даже тогда.
— Я думать не думал, что до такого дойдет. Просто хотел, чтоб ее проняло, но я никогда и в мыслях не держал того, что потом стряслось. Ведь вон как оно повернулось. Так всегда в жизни. Уж если клюнет слишком крупная рыба, она и всю удочку за собой вглубь потянет. Правда, в конце я все-таки попытался хоть что-то поправить. Очень хотел.
Я уставилась на него:
— Боже милостивый, Поль!
Изумление пересилило гнев, даже если предположить, что для него еще осталось во мне место.
— Так это был ты? Ты? Это ты стрелял из дробовика в ту ночь на ферме? Ты прятался там в поле?