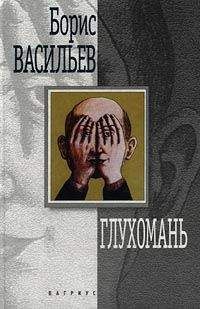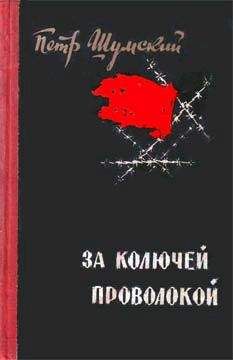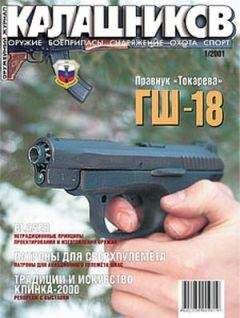Борис Васильев - Глухомань. Отрицание отрицания
Не будут?.. Слишком категоричное заключение. Скажем так: они не должны влезать в наши дела. Стало быть, готовность номер один, штабс-капитан Вересковский.
Осторожно выбравшись из-под досок, Александр долго прислушивался, хотя унылый октябрьский дождь глотал все звуки. Не уловив ни шагов, ни учащенного дыхания, ни тем паче топота сапог, он бесшумно двинулся от берега, не забывая перед каждым шагом носком сапога притаптывать собственный след.
Он миновал прибрежный песок, оставлявший следы. Здесь росла трава, а дождь не прекращался, и штабс-капитан испытал некое облегчение. Капли размоют следы, противник потеряет его направление. Оглянулся, пытаясь сквозь дождливую сетку разглядеть, куда следует уносить ноги от опасного берега, ничего толком не увидел, шагнул…
— Стой! Стрелять буду!..
Александр, падая, выстрелил на оклик, дважды перекатился по мокрой траве и замер.
— Куда пальнул? — спросил другой, басовитый голос.
— Да вроде стоял кто-то.
— Показалось.
— А выстрел?
— А сколько их? А нас двое. А им с земли мы — как на ладошке. Тут связываться — себе дороже.
Вересковский разглядел две фигуры в сплошной смути ночного дождя. И почему-то подумал, что устав пока действует. Вот когда без оклика стрелять начнут, тогда…
Он не додумал, что тогда будет, потому что фигуры окончательно растворились в моросящей мгле. Пора было уходить самому, и уходить кружным путем, отрываясь от реки подальше.
Ноги сами несли его через татарскую слободу. Он убедил себя, что они не полезут в русский бунт, не задержат, не станут стрелять из-за угла, а потому есть крохотная надежда, что он где-либо отлежится. Отлежится, переднюет, сориентируется, а там решит, как пробираться на юг. В крайнем случае, вернется в Офицерский резерв, а там видно будет. Может быть, придется на время спрятаться у Голубковых.
Одного не учел опытный окопный офицер. И ведь отметил это, но — не продумал. Устав еще действовал, а потому те двое патрульных солдат и при первой возможности доложили по команде. Встретили, мол, группу, оказавшую вооруженное сопротивление.
И потому на подходе к замершей татарской слободке, где даже собак в домах попрятали, чтоб не лаяли зазря, капитан был вновь предупрежден уставным окликом:
— Стой! Стрелять будем!..
Обещающий глагол обещал множество. Это капитан сообразил мигом и тут же нырнул в сенную одурь какого-то сарая. Сено, перевязанное шпагатом в тяжелые параллелепипеды, лежало по обе стороны прохода. Прятаться здесь было неразумно, утрамбованную упаковку сена одному с места не сдвинуть, и штабс-капитан тут же перебрался на левую сторону, ногой вышиб доску, увидел перед собою стену другого сарая, перепрыгнул, выломал доску дулом нагана и скрылся во втором сарае, который оказался нормальным сеновалом с узким, усыпанным сенной трухой проходом в центре. За ним шел третий такой же, четвертый — целая цепь сеновалов, которые, правда, неизвестно, куда именно вели. Сзади орали, стреляли, бегали, топали, но Александр вовремя сообразил, что где-то придется поглубже зарыться в сене.
К счастью, не успел. Дымком потянуло, и он понял, что солдаты просто подожгли сеновалы, чтобы выкурить оттуда неизвестных с оружием. Тяга была, как в фабричной трубе, огонь уже шумел за спиною, и капитан прыгнул в дождливую темень, поскользнулся, упал и на четвереньках полез в гору к смутно темнеющим строениям.
Штабс-капитан уже не думал о солдатах, потому что пламя мгновенно занявшихся сеновалов оказалось между ним и его преследователями. Они не могли его видеть и, достигнув строений, Вересковский остановился и внимательно огляделся.
Он оказался в районе, застроенном казенного вида кирпичными трехэтажными зданиями. Строгая планировка, мощеные кирпичом улицы были почему-то знакомы, и Александр догадался, что вышел к госпиталям с другой, мало ему известной стороны. Где-то неподалеку должен быть корпус Офицерского резерва, клиника, куда он ходил на перевязки к Анечке, и — ее дом. С отцом-философом с огромными ручищами и вкусным обедом. И идти следовало не в Офицерский резерв, где наверняка уже была выставлена охрана, а — к Анечке. Но идти очень осторожно, чтобы не притащить с собою преследователей.
Тенью скользя вдоль стен корпусов и, пригнувшись, пересекая улицы, Вересковский добрался до стоящего на окраине возле морга дома патологоанатома Платона Несторовича Голубкова. Постоял, прислушиваясь, и три раза стукнул пальцем в стекло тускло освещенного окна. Кто-то чуть откинул занавеску, но окно не открылось, и капитан постучал вторично. И снова — три раза.
Окно распахнулось, из него высунулся патологоанатом:
— Кому я понадобился?
— Капитан Вересковский. Мне вы пока еще не понадобились, но если пустите в дом, буду премного обязан.
На секунду мелькнув перед окном, чтобы доктор мог удостовериться, штабс-капитан скользнул к двери. За нею звякнула щеколда, и дверь приоткрылась.
— Быстро, — шепнула Анечка, пропуская его в дом. — Вы устроили такой тарарам, что они могут нагрянуть с обыском.
— Можете спрятать?
— Могу, — сказал Платон Нестерович, появляясь в дверях комнаты. — Мертвяков не боитесь?
— Насмотрелся.
— Тогда прошу, — доктор посторонился, пропуская Александра. — Аничка, будут стучать, заговори их, пока не вернусь.
Он молча провел Вересковского в свой кабинет, откуда шел коридорчик в прозекторскую. Здесь остановился.
— Раздевайтесь до белья.
— А оружие?
— Я спрячу.
Штабс-капитан торопливо разделся, оставшись в одном белье. Платон Нестерович сам сдернул с его ног носки и протянул марлевую повязку, закрывающую рот и нос.
— Дышать только через марлю и, по возможности, неглубоко, — открыл баночку. — Натрите ноги.
— Холодит.
— А вы — покойник, — невозмутимо пояснил патологоанатом. — Если кто и коснется, сомнений не возникнет. Прошу в мертвецкую
Открыл дверь в подвал, где горела тусклая электрическая лампочка. Первым спустился, и следовавший за ним в кальсонах и нижней рубахе капитан невольно остановился на последней ступеньке.
В углу лежала груда трупов. Кто в нижнем белье, кто — в чем мать родила.
— Единственный способ, — несколько виновато пояснил Голубков. — Придется полежать под ними, пока гости не уйдут.
Сильными руками он отбросил в угол несколько трупов, подвинул еще два. Образовалась впадина, на которую Платон Несторович и указал своей огромной ладонью:
— Прошу, капитан. Дышать только через марлю.
Александр послушно улегся на живот, всем телом ощутив вдруг мертвый, безжизненный холод окоченевших тел. Положил лоб на согнутый локоть, чтобы дышать по возможности собственной живой теплотой. Спина чувствовала, как его заваливают сверху. Чувствовала не столько тяжестью, сколько жутковатым потусторонним холодом. Услышал голос:
— Не шевелиться. Ни коим образом не шевелиться.
Скрипнула дверь, и свет погас.
Вересковский лежал, не шевелясь и дыша через нос, как было велено, но смутное чувство внутренней тревоги не оставляло его. Нет, он не боялся, что его предадут или найдут: иной была эта тревога. Тревога из детской, из сказок, легенд, баллад, слухов и каких-то детских, смутных представлений о потусторонности, в которой нет ничего живого, кроме упырей. Он понимал, что это — оттуда, из царства страхов без причин и последствий, но ничего с собою не мог поделать. И мечтал только о том, чтобы все побыстрее закончилось.
Скрипнула дверь, вспыхнул свет, послышались шаги.
— Вот мои постояльцы, — он узнал голос патологоанатома. — Предупреждаю, все — от сыпняка. Не подцепите ненароком.
— А чего ж тут бережешь? — голос был чужим, грубым, махоркой прокуренным.
— Для того, чтобы сжечь их, требуется заключение врачей с тремя подписями и разрешение от Управы.
— Мы теперь Управа.
— Ну, так дайте разрешение и бочку керосина.
— Зачем тебе керосин? Пришлем интеллигентов, зароют.
— Померших от сыпного тифа сжигать положено. Инфекция в землю уйдет, а там и в Днепр.
— Ладно. Чтоб завтрева заявка была.
Вышли. А Вересковский и не слышал, что вышли. Обморок, что ли. Очнулся, когда Платон Несторович мертвые тела с него сбросил и чего-то понюхать дал. Из склянки.
14.
На окраинах собственно России то есть, той территории, которая долгое время именовалась Московской Русью, сохранилось немало губернских центров, весьма важных для времен мирной торговли и мирного управления. Их невозможно представить себе без особой стати редких городовых, обязательного памятника какому-либо императору, степенных торговых рядов, степенных лавочников, воображающих себя купцами, и хитроглазых купцов, на всякий случай выглядящих лавочниками в миллионных сделках на лен или коноплю. Здесь летом непременно гуляют по вечерам с тросточками и зонтиками вдоль реки, а в осеннее ненастье собираются в Благородном Собрании или Купеческом Товариществе, где пьют исключительно французские вина из Таганрога и некое безадресное шампанское с пеной, способной погасить небольшой пожар. Это — царство благодушия и несокрушимой веры в завтрашний день, который зреет в двух гимназиях, реальном училище и общественном приюте для особо одаренных девиц, утративших отцов-кормильцев. Жизнь в таком городе не течет, как река-кормилица, а струится из мраморных губок амура, которого подарил городу предпоследний губернатор. Вот почему при наступлении времен смутных и непредсказуемых жители этой тихой заводи и оказались никому абсолютно ненужными, и лишь путались у всех под ногами.