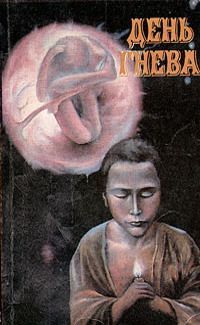Вера Галактионова - 5/4 накануне тишины
— А хвост? — сказал Цахилганов.
— …Хвостов, конечно, было много, — вздохнул Сашка, — но все отпали! Ещё в институте. Не будь их, — мечтательно прищурился он, — я бы сейчас не здесь, а по дамской части работал бы. Не знаешь ты, несчастный физик, как прекрасно устроена женщина! Яичники — хризантемы! Маточные своды — небесная сфера. Женщина, брат ты мой, это — детородная, совершенная и прекрасная, вселенная в миниатюре… А что у мужиков? Одно тьфу! Мы созданы не из ребра, а слеплены из грязи! Увы…
Дальше Сашка понёс непотребное.
Послушав немного, Цахилганов поднялся и махнул рукой. Он пошёл по залу, не глядя на стол. Самохвалов же, сдвинув на затылок шапочку с бантом, смеялся ему вслед, поблёскивая единственным, длинным, зубом:
— Осторожней! Цапнет… Красавица. Берегись!
491
После подвала тьма вокруг казалась чернильной. Лишь в кругу фонаря маслянисто блестела грязь.
Санитар мочился тут же, у двери, в лужу. Под беззвёздным небом широко и безостановочно летел невидимый весенний ветер, шумящий голыми вершинами тополей. И рябое одноглазое лицо санитара, запрокинутое к фонарю, было мечтательным и тоскливым.
Цахилганов, из приличия, подождал немного на пороге, не мешая чужому занятию. Но вот санитар содрогнулся — и завыл вдруг, вскинув голову сильнее.
…Это была песня, мучительная, но на удивленье ритмичная,
состоящая из гортанного клёкота, короткого молчанья, протяжного воя, бессмысленного хрипа и дикого, разрастающегося стона.
Цахилганов снова вспомнил рабочий африканский джаз. Если бы он услышал песню Циклопа в записи,
то, скорее всего,
признал бы её
гениальной…
493
Голос Циклопа поднимался всё выше. И в ночном этом вое было теперь нечто жуткое
и значимое…
Слышалось в нём, определённо, беспокойное дыхание потусторонней, неживой вечности, лишённой гармонии и покоя…
Цахилганов стоял, не шелохнувшись, и молчал в изумлении. Одноглазый санитар хрипел, и мычал,
он дико пел о том, как искажённая человеческая жизнь перетекает в искажённое инобытие — санитар пел об уготованном аде,
и в этой звериной дребезжащей песне не было места слову и душе, но много было простора
для застарелого, грубого страха
перед бездной антивремени —
и вечной тоски, которой исходила земля,
приговорённая людьми к безобразным искажениям…
Рай, рай, бывший рай, мы не помним тебя…
494
Но смолк Циклоп внезапно и обмяк. Потом он долго смотрел огромным круглым оком на весёлые пятна окон в больничных корпусах,
будто ждал чего-то ещё,
какого-то важного для него поступления — оттуда…
Вздрогнув, он принялся застёгивать ватные брюки, низко наклонив голову в драном треухе.
— …Эй, корефан, — сказал Цахилганов негромко. — Там зовут тебя. Давай быстрей. Вниз. Топай.
Мужик даже не обернулся. Тогда Цахилганов толкнул санитара в плечо. Тот качнулся — и жутко осклабился в неверном свете фонаря.
— Корефффа-ан… — вымолвил он вдруг, расслабленно перекатывая слово, не умещающееся во рту. — Гы…
Одинокий, тоскующий, надмирный глаз его умалишённо мерцал во вселенной. А сам санитар был почти не виден во тьме.
— …Корефффа-ан, — повторял мужик, скалясь, и сильно, неприятно толкал Цахилганова в плечо. — Гы. Гы. Корефа-а-ан…
— Ну, хватит! Ты! Заладил… — пятился Цахилганов, отыскивая глазами лом. — Вниз давай! Кому сказал?
495
Вот, выродок. Удолбище…
Сапоги санитара гулко захлопали за спиной Цахилганова, быстро, очень быстро
спускающегося по ступеням.
Ох, не хотел бы он остаться с этим типом в тёмном узком месте, один на один…
Но возбуждённые голоса Барыбина и Сашки уже доносились снизу, из ярко освещённого кабинета.
— …Нет, у него же всё время все виноваты! Фырчит, не переставая! — возмущённо говорил Барыбин, кажется — про Боречку. — Я перед ним пожизненно виноват — оттого, что мерседеса ему не покупаю. Марьяна виновата — с опозданьем чертёжи для его техникума чертит, пока он с друзьями баклуши бьёт!.. Прежде, чем начать вымогать, он делает тебя виноватым!
…Внушить вину другому — отмычка многих. Вечно — обиженных — из — корыстных — соображений…
— Ну, Барыба, не сильно ты Боречку балуешь, — возражал Сашка. — А его дело молодое. Ему многого хочется. И лучшего. Какой же сын будет доволен твоей, родительской, зарплатой? Не обеспечиваешь ты его толком.
— А если нет у меня? Ну, не-е-ет!!! Таких денег! И потом, сколько можно?!. Дам ему тридцатник, всё на этом. Ох, опять надуется как хомяк…
— Ну и дурак, что нет!..
496
Санитар шумно дышал за спиной приостановившегося Цахилганова.
— А, Циклопка! — крикнул Самохвалов из дверного проёма. — Увози эту в камеру. Не будет сегодня вскрытия. Клади на тележку. Слышишь?
Санитар распрямился — и окаменел. Он всё не сводил с простыни тоскующего одинокого глаза. На лбу его, от непонятного, непомерного напряженья, выступили серые капли пота. Набычившись, мужик пребывал в трудном бездействии,
— так — медленно — перерабатывалось — в — крупной — уродливой — его — голове — всё — услышанное.
— Увози, — снова распорядился Сашка. И проорал: — Нерезаную на ночь оставим!
Санитар, поняв наконец что-то, просел вдруг в коленях. И расплылся в тупой стылой улыбке. Словно счастливая обезьяна, он принялся суетливо перекладывать труп со стола на каталку.
— Слушай, — подозрительно спросил Цахилганов Сашку, возвращаясь в кабинет. — А чего это он обрадовался? Санитар?
— Так ведь, в ночь дежурить остаётся! — невинно пояснил прозектор. — Ему же скучно тут одному, Циклопке, правильно?.. Сейчас до холодильной камеры будет три часа её везти. Чтоб дольше не застыла. И ещё не понятно, уложит ли… А и уложит, так дверцу ячейки постарается не прикрыть: как бы она автоматически насовсем не заперлась… Нормальные тут не работают. Денег-то почти не платят.
Дебил! Что с него возьмёшь!..
497
Цахилганова быстро разморило, и мысли в его голове блуждали куцые, незавершённые. Воющий Циклоп, надмирное бледное око его…
Сын… Чей-то сын… Тоже чей-то сын…Человек будущего… На месте бывшего рая поёт санитар…
— Тьфу, — сплюнул Барыбин, ругаясь. — Ты, Санёк, хоть в камере-то её запри, как следует. От него! Барышню эту. А то попала в руки, хрен знает, кому. Знала бы про циклоповы лапы, которые сразу её сцапают, ни в жизнь бы не порезалась!
Кто дедом его был, бабкой — кто… Люди иль нелюди?… За что его так… искурочило… Циклопа…
— Мы были созданы другими, — расслабленно сказал Цахилганов. — А земля эта была раем… Запри от него. Всё, что можно.
— …Ну, запру, запру! — отмахивался Сашка. — Чего вы взъелись оба? Он же — лирик! Он, Циклоп, ими только восхищается. А на эту глядел, как зачарованный! И трепетно сопел!.. Пока я его на улицу пинком не выпер, лёд долбить.
— Пойдём, — поторопил Барыбин Цахилганова. — Мне больше нельзя. Да и тебе не советую тут задерживаться.
— Вот вам, занюхать.
Сашка пододвинул им бутыль с нашатырём. И Цахилганов, отпрянув, прослезился. А Барыбин накапал несколько капель в мензурку, развёл водой из чайника и выпил.
— Циклопка — поэт… — приговаривал прозектор. — Он готов каждой любоваться ночи напролёт!..
Хотя, кто его, дебила, знает…
Наверху раздался скрип открываемой двери. Дробный частый топот прокатился вниз по лестнице.
— К вам сын! — крикнула вертлявая медсестра с порога, зябко передёрнув плечами.
И они обернулись —
все трое…
498
— К вам сын, Михаил Егорыч.
Медсестра потуже стянула шаль на груди, мелькнула белым подолом халата и ускакала на своих кеглях вверх по лестнице. А парень с нечистым лицом скорбно шмыгал широким носом. Он смотрел теперь на них, поочерёдно,
из дверного проёма,
склонив голову на бок.
Сиротка с низким лбом Марьяны,
— надо — бы — возлюбить — его — ох — надо — но — как..
— Проходи, Боречка! — позвал парня Сашка.
— Так, — судорожно рылся в карманах реаниматор. — Вот тебе… пятьдесят. Я на своём обеде сэкономил. И чтоб я тебя больше здесь не видел! Слышишь?
Он обошёл парня, огорчённо вертящего в руках деньги, и направился к выходу, не вспомнив про Цахилганова.
— Сразу домой! — крикнул Барыбин сыну, поднимаясь по ступеням.
— А где я возьму ещё? — топтался Боречка и хмурился. — мне надо.
499
— …Ладно! Садись, садись, — подмигнул Сашка парню. — Ну? Что случилось-то у тебя опять?