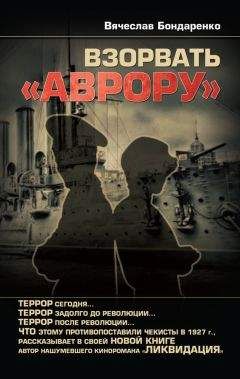Эдгар Вулгаков - Течение времени
– Спасибо за комплимент. Как ваше здоровье, Николай Николаевич? – спросила Елена Федоровна. – Не нужна ли моя помощь?
– Нет, нет, спасибо. Со мною сейчас все в порядке.
– В таком случае «по коням», поехали, – скомандовал Алексей Петрович. – А то Дан со Светочкой приедут раньше нас, и с нашей стороны это будет невежливо. Правда, они свои люди, к тому же на даче, как всегда, Мария Сергеевна, но тем не менее.
Николай Николаевич, категорически отказавшись от места рядом с водителем, устроился на заднем сиденье рядом с Таней и всю дорогу держал в руках горшочек с розочкой, оберегая цветок от толчков. Между ним и Таней завязался тихий разговор о смысле Таниных работ.
Вчера, вернувшись домой, Николай Николаевич засомневался в правильности своего решения поехать на дачу к Лариным. Они еще молодые, а он – одинокий старик, у которого война отняла сначала сына, а затем жену. Между ними лежала не только разница в возрасте, целая вечность разделила людей на тех, кто ходил в атаку, и тех, кто в годы войны еще учился в школе. Правда, Елена Федоровна, удивительная Елена Федоровна, будучи почти еще девочкой, помогала искалеченным солдатам возвращаться к жизни. С семьей Лариных он сталкивался при различных обстоятельствах и знал их как честных и порядочных людей. Но в них чувствовалось скрытое неприятие партийных решений, в которые он тогда верил, как в истину в последней инстанции. А они не верили и, безусловно, в своем кругу фрондировали эти решения с надеждой, что в будущем в партии произойдут изменения к лучшему. Бывший комиссар полка, секретарь райкома партии, член МГК, он воспринимал решения ЦК через его рупор – газету «Правда». Но и после XX съезда, несмотря на осуждение ошибок в партийном руководстве страной, не прекращались гонения за инакомыслие, продолжались судебные процессы над диссидентами, нависла угроза разгона Академии наук. А каковы вздорные обещания Хрущева догнать и перегнать Америку и к 1980 году построить коммунизм!..
Ворота на даче открыл Алеша-младший, возле которого, заливаясь радостным лаем, крутилась Зита.
– Здравствуйте, мои дорогие, я очень рад вас видеть, очень. Я хочу вас всех обнять, – и он подошел к каждому, и каждого обнял и поцеловал, остановившись возле Разуваева.
– Мой мальчик, – обратилась к нему Леночка, – знакомься, это Николай Николаевич, наш старый знакомый. Его хорошо знала твоя мама, когда мы жили в райцентре. Как глава партийной организации района Николай Николаевич поддерживал все ее начинания, правда, несколько корректируя в духе того времени. Он очень интересный человек, и я думаю, вы найдете время для беседы. Позднее расскажешь, как себя чувствуешь и не скучаешь ли здесь без нас, хорошо?
Николай Николаевич держался непринужденно.
– Люблю возиться с землей. Мое первое образование – агроном-садовод, окончил Тимирязевку. Потом поступил на исторический в МГУ, на вечерний, а перед самой войной сдал госэкзамены. После войны окончил Высшую партийную школу при ЦК партии, на Миусах. Учиться было интересно. Как же у вас тут хорошо! – Затем, обратившись к Алексею Петровичу и Дану: – Дорогие товарищи, по возрасту я вам почти в отцы гожусь, можно с вами без отчества, по имени?
– Конечно, Николай Николаевич, – ответил Алексей Петрович.
– Ребята, для меня удовольствие поработать в саду. А кто здесь главный по этой части?
– Жена и Мария Сергеевна, и Татьяна, если бывает свободной. Меня допускают только к подсобным работам.
– Отлично, с ними я договорюсь. А пока я буду в саду, Алеша, расскажите о моих приключениях Аветику, или Дану. Как мне его называть?
– Говорит, что русским удобнее произносить «Дан», и он привык к этому имени со студенческих лет. Расскажите мою историю и вашему сыну, если ему интересно, а потом обсудим разные точки зрения. Итак, прежде всего надо найти место для розочки, с которой начнется будущий розарий.
– Николай Николаевич, мне тоже хочется поработать в саду и одновременно поразмяться, – подключилась к разговору Таня. – Что касается Алешек и дяди Дана, то на эти работы их и калачом не заманишь. Папуля иногда проявляет интерес к саду, так как любит, чтобы все было красиво, зелено и ухожено. Кстати, он как-то высказал идею о розарии. Но когда узнал об их особой зимовке, мне кажется, поостыл.
Скоро всех позвали обедать, после чего мужская половина удалилась в сад на скамейки.
– Ну, что вы скажете, друзья, про мою историю? спросил Разуваев.
– Обсудив с Даном вашу историю, мы не считаем, что она исключительная, из ряда вон выходящая. Великий Демагог, наша с вами партия, на разных этапах своей жизни использовала под разным обличьем секретный аппарат для запугивания и принуждения, в который нам, не попавшим в область ее внимания, не хотелось верить, что он существует и сегодня. Вы – такой же, как и мы, и вам не хотелось верить, что наша с вами партия – преступная организация. Но вы-то были в аппарате партии, вы знали куда больше, чем мы – ее рядовые члены! Сейчас не будем называть тех, кто уже после XX съезда, выступая против Великого Демагога, попал «в места не столь отдаленные», или был выслан за пределы Союза, или пострадал еще каким-то образом. Здесь видна гибкая тактика партии в наше время: с одной стороны – массовая реабилитация жертв сталинских репрессий, с другой – новые процессы, уже в наше время, над инакомыслящими. Партия и КГБ, а раньше – партия и МВД, слившиеся в единое целое, – преступные организации. Думаю, ваша история – дело рук КГБ. Им надо было напугать, сломать вашу волю, напомнить о правилах поведения, которые можно сформулировать кратко: не высовывайся, знай свое место, никаких инициатив, выполняй решения партии и правительства, иначе будет плохо. Мало ли как можно сделать человеку плохо. Для этого есть психушки, может произойти несчастный случай – горшок с цветами упал на голову с третьего этажа. Мы думаем, что случай, происшедший с вами, – это урок для вас и одновременно для ваших коллег по партии, занимающих ключевые посты. Скорее всего, была распространена информация о «хулиганском нападении» в ночной электричке на первого секретаря райкома, который с проломленным черепом и другими телесными повреждениями был доставлен в больницу. Вот так, Николай Николаевич, закончилось ваше дело. А началось оно давно. Вы для них были комиссаром, который действовал по велению сердца, ленинцем, если под ленинцем понимать кристально чистого коммуниста, действующего на основе теоретических принципов коммунистических отношений в обществе. А ЦК партии нужен партийный чиновник, готовый на выполнение любых его решений. Вы часто в разговоре с нами называли себя солдатом партии, а на самом деле вы были в партии романтиком, комиссаром, как Фурманов у Чапаева. Главная ваша ошибка, Николай Николаевич, что вы остались партийным функционером, поняв, что вас окружает фальшь, демагогия, вранье. Надо было рвать пуповину и уходить от функционеров в открытые диссиденты или ждать изменений в партии, как большинство. А вы этого не сделали. Почему? Надеялись, что произойдут изменения в партии в сторону демократизации, а так называемому демократическому централизму придет конец. Или вы были во власти инерции и плыли по течению, стараясь отогнать от себя мысли, что будет за поворотом. Или понимали, что выход из партии для вас может иметь один конец – психушку, тюрьму, лагерь. Такую резкую оценку вашей партийной деятельности вы можете услышать только от друга. Я ваш друг.
Все время, пока говорил Ларин, Николай Николаевич сидел, не меняя позы, уставившись в одну точку. Он внимательно слушал, и одновременно в сознании мелькали события его жизни. Выходит, бесцельно прожитая жизнь. Конечно, не так, конечно, не так. Много было создано полезного, но можно было бы сделать еще больше, если бы они жили в свободном от коммунистической идеологии демократическом государстве.
Ни на кого не глядя, погруженный в себя, в свои нелегкие воспоминания, заговорил Дан:
– Отца помню хорошо. Он был убежденным коммунистом и работал в Коминтерне. Его библией был «Капитал» Маркса. Помню, приходили к нему товарищи, и я часто слышал: «прибавочная стоимость», «рента», работы Ленина… Отец восхищался: «До чего просто и так глубоко». За ним приехали ночью, в тридцать восьмом. Нас с матерью не тронули, а другую семью из нашей большой коммунальной квартиры взяли всю – мужа, жену и сестер, только что окончивших десятилетку. В освободившуюся комнату въехал какой-то НКВДэшный чин, от которого я метнулся в сторону, столкнувшись в коридоре:
– Что, испугался? То-то! Не тронем!
– Года через два он куда-то исчез, а во вновь освободившуюся комнату въехал дворник нашего дома – стукач и сволочь. Семья его жила в деревне, и мы ее не видели. В Москве у него была, как он говорил, другая баба, из его деревни, тоже дворник и его первый помощник.
Держал он себя нахально, нагло, открывал дверь в комнату без стука, интересовался, кто у нас был. Его забрали в армию в первые дни войны, а комнату опечатали. Потом и дворничиха исчезла, а с войны дворник не вернулся. Так вот проходило мое детство под опекой, негласным надзором недремлющего ока НКВД. Почему мы, народ, черт возьми, находимся все время под надзором, почему нам одни книги разрешают читать, а другие не разрешают, почему партия разрешает смотреть только те кинофильмы и те театральные спектакли, которые она одобряет? И музыку тоже. Почему все время нам лезут в душу?