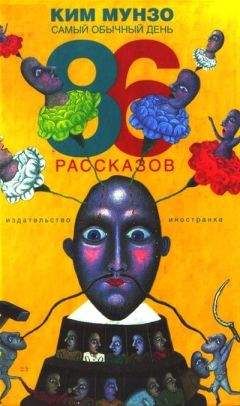Геннадий Головин - День рождения покойника
Она явно ничего не поняла.
— Ну а я? Чем же я… вам?
Он рассмеялся, очень принужденно, скрывая смущение.
— Ну, может, расскажете что-нибудь. Может, вспомните что-нибудь интересненькое. Мне все сгодится, вы не сомневайтесь! Ну а не вспомнится ничего — тоже не беда, не обижусь.
Анна Петровна очень серьезно огорчилась.
— Боюсь, что никакого проку вам от меня не будет. С памятью у меня (вы — молодой, вам этого не понять) — память у меня… как паутина: видишь, отчетливо видишь, а притронешься — рвется! И в руке… —
и она сделала щепотью жест, очень точный, будто освобождала пальцы от паутинного прикосновения.
И вдруг — на лице ее написался ужас.
В дверях беззвучно стоял некто серо-голубой.
На нем было надето что-то вроде кителя или френча, но с цивильными пуговицами, также и полуформенные брюки, однако был он, как ни странно, не в сапогах. Хотя сапоги так прямо-таки и просились в картину — ибо весь вид этого человека грубо и просто намекал о какой-то сугубой службе (а может быть, и проще: о лютой, неизбывной тоске по этой службе), связанной с недоброкачественностью людей и с каждодневными скучными его усилиями породу этих людей если и не улучшить, то привести, по крайней мере, в соответствие…
Нужно бы еще заметить, что паршивенькая серо-голубенькая ткань домодельной его униформы странным образом мгновенно наводила на мысли и о казенной сумеречной скуке сиротского какого-то приюта, — точнее, об одинаково и безразлично одетых детях этого приюта, молчаливых, сонных и несчастных…
Его лицо, которое можно было бы назвать и мужественным — медальное, слегка страшноватое в своей тупой вдохновенности лицо военкоматского полководца, — было удивительно, как у ребенка, взволнованным в этот миг и очень бледным от волнения (Анна Петровна даже обеспокоилась: так выглядят люди на пороге обморока) — оно, это лицо, тоже отдавало в какой-то серовато-голубоватый тон, сквозь который с трудом проглядывала склеротическая розоватость щек и крыльев носа.
Дрогнувшим голосом незнакомец произнес:
— Здравствуйте! — покашливанием попытался прогнать волнение, однако, не прогнал, а лишь загнал внутрь, откуда оно тут же стало прорываться странными, не к месту, придыханиями и плохо управляемой, словно бы подскакивающей мелодией фразы:
— Здравствуйте! — повторил он. — Я не знаю, знаете ли вы, но я — Щитовидов. Первый заместитель председателя совета жилищного актива.
Тут Анна Петровна вздрогнула от неожиданности. Полуэктов резко поднялся со стула, чуть ли не подскочил, и звук издал при том хищный, радостно-зловещий: «Тэ-экс!»
— Я пришел, чтобы официально, — тут Щитовидов буквально задохнулся и смешался, — …на собрание жилищного актива относительно слухов, хождение имеющих, — он еще раз по-рыбьи сделал ртом — …относительно вас, гражданка Захарова-Кочубей!
— Значит, так! — весело и оживленно заговорил Полуэктов и, шагнув, приблизился к Щитовидову так неудобно близко, что тот вынужден был сделать шаг назад и очутиться почти за порогом.
— Относительно «хождение имеющих» жилактиву объясню я. Я — племянник, а Анна Петровна не совсем здорова, но я в курсе дела, так что давайте не будет мешать, а будем спешить, не так ли? Народ, не сомневаюсь, уже в сборе?
И деликатно выталкивая первого заместителя в коридор, он сам следом за ним исчез.
Все произошло так стремительно-смешно, что Анна Петровна улыбнулась. А потом тихо засмеялась.
Ей хорошо стало.
…И когда потом она терпеливым шажком шла по коридору, медленно шаркая разношенными тапками и время от времени трогая стену пальцем, словно бы придерживаясь за нее, и покорно останавливаясь через два шага на третий, чтобы утишить сердце; и когда в скверно освещенной, заслякоченной ванной, изо всей силы терпя нечистоту и убожество окружающего, она кропотливо творила бедный свой старушечий туалет; и когда шла назад — уже и чуточку освеженная и чуточку взбодрившаяся, — не отрывая истовых глаз от медово-горячей солнечной полосы, бьющей поперек мрачного коридора из приотворенной двери ее комнаты… — все это время не покидало Анну Петровну давешнее, вновь вернувшееся, чувство обретения, горделивого обладания чем-то — чувство, почти девчоночье, немножко смешное, но доставляющее много отчетливого довольства и утешения.
Она — сама с удивлением это отметив — заметно ободрилась.
Застелила постель покрывалом. Покупки, принесенные Виктором, разложила на столе в некоем подобии порядка. Сумку его — с особой заботой, чуть ли не нежно — сложила и тихо повесила на спинку стула.
Ее тянуло к окну. Солнце рьяно било наискось оконного проема, гулкой рыжей стеной перегораживало комнату.
Она шагнула туда, в этот свет (непонятно почему напрягшись), и тотчас — охватило ее таким милым добродушным теплом силы, что невольно опять вспомнился добрый ее гость, и ощущение мира, блаженной тишины вновь коротенько тренькнуло в ней… ну, наподобие того, как два-три такта светленькой хрустальной музычки тренькают вдруг, когда невзначай, на миг, приоткрывают крышку музыкальной шкатулки.
Белый подоконник был горяч от солнца, был на ощупь нежен, и дивными юными своими перстами Анна Петровна рассеянно гладила плавную, словно бы плавной глазурью облитую поверхность его и смотрела во двор, — уже поневоле надвое деля свое внимание между странной чередой людей, оцепенелых возле убогой обшарпанной стены, и этим вот, живо греющим, почти чувственным, проникновенным теплом, которое пронизывало кончики ее ласкающих пальцев.
Какие-то мальчишки назойливо прыгали и кривлялись под окном, изо всей силы стараясь попасть в полосу ее зрения (как прыгают они, к примеру, где-нибудь на улице или на трибуне стадиона, обнаружив кинокамеру, глядящую в их сторону), но Анна Петровна не замечала мальчишек.
Что-то — не сказать, что неприятное — отвлекало ее нынче.
«Да! У меня ведь теперь забота! — вспомнила она наконец. — Ему нужно, он говорил, чтобы я вспомнила что-нибудь из тех времен интересное, особенное… Но — господи! — что же вспоминать? Что именно?» —
и вдруг, в единый миг, разволновалась до сердцебиения, испугавшись, всерьез испугавшись, что вряд ли сумеет. И стала кидаться суетливым воображением к каким-то отсветам прошлого, тускло глядевшим сквозь темень ее памяти, но они, словно испуганные этим ее внезапным, таким резким интересом к себе, тотчас принимались гаснуть, те невнятные отсветы, или, подобно солнечным прихотливым зайчикам, как-то отскакивали пообочь ее внимания — и почти ничего, один лишь мелочный пустяковый мусор оставался в бредне, который она с торопливостью тащила на берег.
Девятый десяток лет жила на этом свете Анна Петровна. И вконец уже изветшала трепетная ткань ее памяти — вот даже от пристального усилия внимания расползалась нежным жалостным тленом…
Она почувствовала отчаяние. Она почувствовала никчемность свою. Острую боль потери.
Она почувствовала унылый тошный стыд — от того разочарования, которое неминуемо должен будет испытать Виктор, едва убедится в старческой ее бестолковости.
«Но что же это? — глухо подивилась вдруг она. — Как много всего! И этот стыд… и эта жалость… и страх потерять… И все это — я??»
Он вошел, оживленный, веселый, бодрый. Но странно, что ни веселость его, ни бодрость ничуть не задевали ее самолюбия старого человека. Напротив — смиренная, почти материнская отрада дрогнула в ее сердце, когда он вошел вот такой — веселый и бодрый, сразу же заполнивший все пространство комнаты добродушным спокойствием несуетного и сильного человека.
В руках его она увидела цветы.
— Вам! — произнес он, протягивая букетик довольно чахлых хризантем и явно конфузясь при этом, как всегда конфузятся мужчины, исполняя этот, довольно странный на их взгляд, обряд.
— Вам! За то несказанное удовольствие, которое — благодаря вам! — я получил, пообщавшись с вашим замечательным жилактивом. Такого паноптикума, — продолжал он все в том же, чересчур уж оживленном тоне, — я уже не чаял когда-нибудь и увидеть. У них, не поверите, лозунг там висит на стене: «Общественность — глаза и уши Советской власти»! —
а Анна Петровна тем временем, с мукой претерпевая мелкий скандалезный хруст и треск ледяного на ощупь целлофана, высвобождала цветы, медленно и с удивлением вспоминая в себе ощущения, которые всегда испытывала, когда возилась с принесенными ей цветами (о! ей немало дарили букетов в ее жизни!), — то странное, обеспокоенно-нежное, чуть жалостливое и всегда почему-то торопливое — будто дело шло о попавших в беду детишках — желание вызволить, дать приют, поскорее напоить-накормить.
Она освободила их, и цветы жалобно легли в ее ладонь, истомленно и перепутанно свесивши свои уже чуть вяловатые, шершавые, грубо размочаленные понизу стебли.