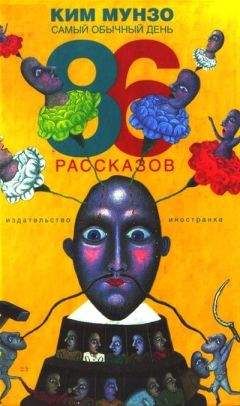Геннадий Головин - День рождения покойника
Она попробовала ответить на этот вопрос, но у нее даже и предположений никаких не возникло — настолько и настолько давно она была одинока.
Единственным человеком, кто приходил к ней изредка — убраться, принести молочного из магазина, одолжить трешку «своему идолу», — была Фаина-соседка. Но — мужчина?!
Его долго не было.
Его не было так долго, что могло показаться, он ушел вовсе.
Однако Анна Петровна почему-то совсем не беспокоилась его отсутствием. Он снова сейчас придет — она знала это. Просто знала, и все.
А главное, пространство комнаты, хоть он и вышел, все еще было заполнено им: царило добродушное какое-то спокойствие, царила слегка усмешливая вера во что-то славное, доброе, что непременно случится — не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра.
Этого Анна Петровна так бесконечно давно не ощущала — не только в себе, но и в других людях — и так, ей, видимо, жгуче, голодно не хватало именно такого ощущения жизни (ибо оно с неоспоримой отрадой свидетельствовало о Гармонии, которая все же, вопреки очевидному, но присутствовала в мире, а она на смертном своем пороге неосознанно и жадно именно ведь Гармонии искала во всем, что происходит на смертном ее пороге, ибо отсутствие этой Гармонии с жестокой печалью означало напрасность, прежде всего, никчемность и случайность ее, Анны Петровны, пребывания на этой земле…) — и так ей, видимо, насущно нужен был именно этот покой во взгляде на все происходящее, что она, уловив это в загадочном своем госте, неведомо как уловив, по-детски возликовала вдруг, как ликует, быть может, погибающий от удушья, блаженно поймав саднящими бронхами прохладу и нежность кислорода, и задышала — так покойно, всласть! и так благодарно отдалась вся переживанию этого дивного ощущения! — и будто прохладная сильная ладонь легла на разгоряченный лоб — поплыла-потихонечку-поплыла, так и не открыв глаза, в новом забытье — теперь-то несказанно приятном, словно бы золотистом, как солнце сквозь ресницы…
…И светленькая девочка-худышка исподтишка глянула ей в лицо — лет девяти девочка, в платьишке, застиранном и линялом, которое по-нищенски ветхо обвисало с ее тощеньких плечиков, высоко открывая еще вполне цыплячьи, сухожильные ножки с загорелыми до грязноватой синевы коленками торчком…
Она стояла чуть сзади и сбоку от матери, и Анна Петровна слышала ее тихий внимательный взор все то время, пока она, не в силах оторваться, пила из мутноватой литровой банки холодное густое молоко, едва сдерживаясь, чтобы в голос не застонать от упоения и услады, льющихся в нее с каждым неторопливым полновесным глотком.
Наконец — «А-ах!» — с веселым восхищением опростала она банку и смогла теперь посмотреть на девочку —
и тотчас у нее нежно и жалостно дрогнуло сердце, когда она увидела это исступленное обожание, несмелый восторг, с какими взирала на нее эта худышка снизу вверх своими широко, словно бы в изумлении распахнутыми серо-голубенькими глазами.
Девочка, застигнутая врасплох, тотчас сморгнула, потупилась, чуть не заплакав, затем снова глянула исподлобья, будто бы даже и с обидой, и снова — преданность и восторг неудержимо разгорелись в ее глазах при виде этой сказочно красивой, ужасно счастливой, ужасно свободной в каждом своем движении, плавной женщины. У девочки даже жалко задрожало что-то в лице от непосильности поражающих ее чувств.
А Анна Петровна, так вдруг — до донышка! — услышав душу девочки, быстро присела перед ней, как бросилась, и в смешном торопливом желании тотчас научить и ее, эту худышку, счастью, которым она вполне владела все последние дни, быстро обняла девочку, огладив по голове и худенькой, как у котенка, спинке, и заговорила, сразу же поразившись несоответствию слов с тем, что она чувствовала и хотела сказать:
— Ты будешь большая… ты будешь красивая! Ты обязательно будешь очень красивая — со светлыми волосиками, синеглазая. Обязательно будь добрая, ладно? Как тебя зовут? («Лиля», — ответила та тоненько и печально) —
и уже окончательно чувствуя бессилие слов, но все так же изнывая от жгучего желания сообщить этой белобрысой бедняжке тайну быть счастливой, Анна Петровна обняла ее глубоко и тесно, надеясь и веря, что тайна эта, быть может, сообщится ей как-то по-иному, без слов, войдет в ее память с запахом ее духов, ее нежного, благодарного, любимого любимым тела, с ощущением той победительной и плодотворной силы, которую спокойно излучало все ее существо эти последние дни.
Она услышала, что девочка украдкой покосилась на мать. Анна Петровна слегка отстранила Лилю, еще раз внимательно отладила ее по светлым, тяжеловатым, давненько не мытым полосам и еще раз сказала:
— Будешь красивая и большая и глазами будешь делать вот так… — и показала, как царственно и немного театрально будет делать глазами прекрасная дама, какой станет эта золушка, и Лиля засмеялась, откровенно счастливая, и рассмеялась Анна Петровна, и мать тоже улыбнулась, с усилием перекроив на лице складки, привычно и тяжело слежавшиеся в выражении хмурости и озабоченной усталости.
— Она — помощница… — словно бы нехотя проговорила мать высшую, должно быть, свою похвалу. — Дай-то ей бог…
И вся эта сцена была освещена — как неярким осенним солнцем — спокойным присутствием человека, который, никуда не торопясь и не торопя, поджидал ее, Анну Петровну, вольно сидя на серых от старости и дождей бревнах, рассеянно пощелкивал прутиком по брезентовому сапогу и время от времени с любопытством наслаждения быстро окидывал взглядом все вокруг, словно бы с намерением твердо и навсегда все запомнить.
* * *Он опять был где-то рядом, в комнате.
Анна Петровна открыла, наконец, глаза, торопясь увидеть загадочного своего гостя.
Первым ее чувством было острое разочарование скуки: она увидела затрапезно-серую полосатенькую ткань пиджака, сутулую спину и не очень опрятные, запущенные, так что они уже завивались на воротнике крупными полукольцами, волосы.
Он сидел вполоборота, почти спиной к Анне Петровне, и что-то делал — кажется, резал — на столе.
С неудовольствием, почти враждебностью смотрела Анна Петровна в спину своего незваного гостя. Но вот — он чуть-чуть повернулся в профиль, и Анна Петровна с облегчением и удовольствием как бы хмыкнула про себя: у него был та-акой нос!
У него был такой замечательно большой, добродушный, мягкий нос, что по одному по этому обладатель его не мог не быть хорошим человеком.
Он мгновенно напомнил ей какую-то старую карикатуру на Корнея Чуковского.
…Полагалось, однако, поинтересоваться, кто и почему — в ее доме. И, в общем-то не ощущая в этом никакой необходимости, она спросила:
— А вы… кто? — почувствовав при этом, как ни странно, отчетливое чувство неловкости от этого так уж в лоб, так уж неделикатно поставленного вопроса.
Он живо и обрадованно обернулся.
— Я-то?.. — и юмористически шевельнул носом. — Им (он кивнул на дверь) я сказал, что я — племянник.
Подождал, как отреагирует на такое заявление Анна Петровна, не дождался и с явным облегчением произнес:
— Давайте, я вас чаем напою? У меня нехорошее чувство, что вы дня два чаю не пили. А вообще-то я — ваш сосед. Из другого, правда, дома… Я вот тут от нечего делать бутербродов намастерил, так что, давайте, я вас попою-покормлю для начала?
У него была еще и некая бороденка — не очень-то взрачная, мужицкая какая-то. Да он и весь, определила Анна Петровна, на мужичонку скорее всего был похож — «из незаможних», как когда-то говорили хохлы. Ему бы зипунишко, подпоясанный веревочкой, лапти с онучами да заячий треух — готовая была бы иллюстрация в повесть девятнадцатого века из простонародной жизни.
Глаза вот только — хоть и посажены были чересчур уж близко к непомерному носу, и хоть казались они от этого слишком уж маленькими и простенькими, — в глазах вот только много книжного ума глядело, терпеливого, спокойного, не лукавого, что, впрочем, не мешало, повторим, походить этому лицу на лицо простолюдина, а если еще точнее, на лицо многомудрого гнома из детского спектакля, по ходу которого беспомощное и нежное добро гонимо грубым и глупым злом, а он, этот гном, должен до поры до времени философически медлить, наблюдая за этим оплаченным безобразием.
Он был прав: Анна Петровна ужасно как оголодала. В последний раз она ела, кажется, перед тем скандалом, который учинила здесь Марина. А с тех пор — сколько же прошло времени?
Ела, словно за ней гнались — теряя крошки, суетясь, не успевая прожевывать. Стыдно было этак-то жадничать перед незнакомым-то человеком — но ничего не могла она с собой поделать!
Да ведь и чай, который он налил ей из своего термоса, был и в самом деле хорош: и прекрасно заварен, и сладок, и горяч. И бутерброды были замечательны: хлеб (ее любимый, за 22 копейки) в меру тонко нарезан, масла — не скупо, но и не чересчур много. Ну уж а ветчина-то, которой были покрыты бутерброды (он будто знал), — ветчина-то была именно того, любимого ею сорта, за которым в недавние еще времена она не ленилась ездить сама — непременно в «Елисеевский», — чтобы, выстояв там в очереди (не такой, конечно, безобразно огромной, как сейчас), купить ровно триста граммов — не двести, и не четыреста — и чтобы обязательно порезали, ибо непонятным образом ветчина эта много теряла во вкусе, если нарезана была дома, а не в магазине, не чистенькими ручками молоденькой, опрятной куколки-продавщицы, не длиннющим ее ножом, страшно, видимо, острым — с уже почти истаявшим от бесчисленного множества точений, узеньким злым лезвием, казавшимся особенно опасным в соседстве с тяжелой сосновой рукоятью, дерево которой с годами вид приобрело совершенно какой-то кости, может быть, даже слоновой…