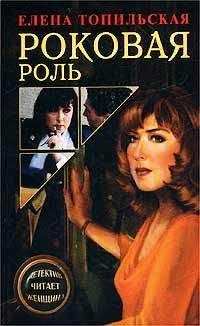Елена Чижова - Лавра
«Ваш довод, владыко, при всей его кажущейся привлекательности, лично мне представляется сомнительным. – Нетерпеливо кусая нижнюю губу, он дожидался развернутого ответа. – Этот довод работал бы только в одном случае: если бы нам пришлось доказывать наше биологическое отличие от животных. Вы считаете, нужны доказательства?»
Я жалела о том, что у меня связаны руки. Тому, кто прожил жизнь внутри комсомольского оцепления, не расскажешь всей правды. Не то чтобы наша правда была особенной… Можно подобрать слова. Пусть не впрямую – обиняками: в этом искусстве мы все, замороченные скверным временем, были сильны. Привыкшие жить в окружении призраков, самым зловещим из которых был призрак телекрана, умели находить двоедушные формулировки, чтобы – если понадобится – вывернуть наизнанку. Однако про себя мы имели ясное представление о том, где лицо, а где изнанка. В разговоре с владыкой все было безнадежнее и сложнее. Слово, произносимое по разные стороны комсомольского оцепления, существовало в разных системах координат. Их и наши слова означали разное. Взять прелюбодеяние… В это слово мы и они вкладывали разный смысл.
Словно касаясь обреза бахромчатой книги, я говорила, что исторически человек перерос животное настолько, что любая попытка найти этому доказательство оборачивается изощренным мучительством.
«То, что вы называете человеком, в действительности не существует: церкви приходится иметь дело не с человеком, а с народом, еще точнее говоря, с людьми. Все люди разные. Среди них встречаются и такие, которым именно это и приходится доказывать».
«Если церковь, – я говорила осторожно, подбирая слова, – как и тысячи лет назад, все еще стремится доказать принадлежность каждого человека к человеческому роду, причем критерием этой принадлежности избирает покорность традиции, она перестает быть духовным телом народа. Становится новым родовым институтом. Попросту говоря, первобытным».
«Первобытным? – владыка переспросил настороженно. – Вы имеете в виду бессилие дикаря в борьбе с природой?..» Я покачала головой.
Разве я могла сказать ему, что полагаясь на людей, которым он надеется доказать их принадлежность к человечеству, он тем самым отворачивается от нас? В моих словах не было бы высокомерия. Просто те, кого он назвал народом, отличались от нас не биологически, а исторически, и эта разница заключалась не столько в опыте собственной жизни, сколько в стремлении переосмыслить другой опыт, доставшийся по наследству. Они, составляющие его народ, для которого он готовился стать первосвященником, каждый раз начинают заново – с момента своего рождения. Другие, меньшинство, которое отец Глеб полагал чуждым народу, а Митя называл монотеистами, не могут отрешиться от опыта, доставшегося в наследство от поруганных отцов.
Даже с ним, сделавшим церковную карьеру, мы полагались на разный опыт – как будто прочли разные книги. В отличие от моих, бахромчатых, которые владыка провозил беспрепятственно, через депутатский зал, его книги уходили в давние времена, точнее, отстояли от нашего времени почти на два тысячелетия, и в этом была их правда. Она заключалась в том, что за этот срок они успели стать почти безличными, вобрали в себя слишком много, чтобы кто-то, чья память ограничивается несколькими десятилетиями, мог надеяться их в чем-то убедить.
Тогда, в свои двадцать пять лет, я не могла сказать этого прямо. И не потому, что боялась. По-настоящему я просто этого не знала: учителя, учившие меня жизни, не могли передать того, что называется социальным опытом. Этот опыт появляется лишь тогда, когда что-то меняется в общественной жизни. Настоящее, которое нам досталось, было вечным и неизменным, душным и тягостным, как дурная бесконечность. В 1980-м нам казалось, что будущее, если речь идет об этой стране, никогда не наступит.
Во всяком случае, в том памятном разговоре с владыкой Николаем я не могла знать ни своего, ни, главное, его будущего. Разве я могла предположить, что наши потомки, своими глазами увидев будущее, обратятся к нашему прошлому и, заглядывая в него, как в зеркало, станут искать и находить в нем хорошее, и наше прошлое, которое все мы, до самой смерти, будем считать помрачением, многим из них покажется подлинным и настоящим?
Ничего этого я не знала, а значит, могла полагаться только на тихие и почти неразличимые слова: снова, как когда-то, задолго до моего страшного воя (муж и духовный отец назвали его одержимостью, а любовник – тяжкой болезнью), я начинала их слышать. В тишине, куда погрузилась моя душа, они казались сильными и внятными, но я, чувствуя телесную слабость, еще не решалась их записать…
Теперь мне кажется, что этими словами со мной говорили бахромчатые книги, которые я – за годы, прошедшие с той пасхальной ночи, – успела прочитать. Их авторы – про себя я назвала их монахами – разговаривали со мной. Многие из них не дожили до середины XX века, но в те минуты, когда я их слышала, мне казалось, я могу угадать и ненаписанные слова.
Этого я не могла сказать владыке, а потому возвратилась к делу, ради которого пришла.
«Первобытная религия соединяет человека с его предками, которые, если суметь к ним подладиться, при случае могут защитить. С нами – по-другому. Наши предки, вспомним недавнее прошлое (мне хотелось сказать: историю XX века), не имеют опыта нашей жизни. Их опыт не может нами управлять. Все, что они могут, это передать нам толику своего исторического опыта, чтобы мы, переосмыслив, могли их услышать».
«Вот именно, – владыка подхватил решительно и взволнованно. – Но предки – это не одно или два поколения. Опыт предков хранит православная церковь. И это – не исторический опыт. Церковь – это прежде всего таинства. В них залог национального единства и – он помедлил – надежда на Второе пришествие».
Второе пришествие – смерть. Я думала о том, что национальное единство не достигается смертью. Во всяком случае, не в нашей стране. Убитым и убийцам не сойтись ни по ту, ни по эту сторону: у их потомков не может быть общих предков.
«Православная церковь, – я продолжила медленно и внимательно, – прежде всего – власть. Точнее говоря, она обладает властью над душами, в некоторых случаях – неограниченной…» Теперь я и вправду жалела о том, что связана словом: обещала не упоминать ничего, что могло бы бросить тень. Иначе я рассказала бы ему об отце Глебе… Это казалось мне важным.
«Вы – о себе?» Тридцатилетние глаза смотрели напряженно. Он, облеченный церковной властью, желал убедиться в моей покорности. Я поняла, от этого ответа зависит исход. Именно теперь, соблюдая приличия, я должна была признать их власть над своей душою, ответить: да. Совершеннолетняя мудрость, свившаяся под сердцем, нашептывала покорный ответ. Однако исторический опыт, переданный мне Митей, нерасторжимая связь с которым с церковной точки зрения называлась прелюбодеянием, говорил другое.
«Нет, владыко, – я встретила напряженный взгляд. – В данном случае я говорю не о себе. Над своей душой я не могу признать ничьей неограниченной власти. За себя я отвечаю сама». Теперь по долгу иерархии он должен был меня изгнать. Медленно, словно раздумывая, владыка поднимался с места. Готовая принять неизбежное, я встала.
«Давайте попьем чаю», – в голосе Николая не осталось отцовства. Встав с места, он заговорил, как брат.
(Муж, духовный отец, брат, любовник – полный набор персонажей моей нелепой жизни. Теперь у меня есть соблазн назвать ее комедией дель арте. В этом театре, как и подобает, за кулисами присутствовал режиссер: в каком-то смысле мы все играли навязанные роли.)
Украдкой я взглянула на часы. Владыка поймал мой взгляд и усмехнулся. Его рука потянулась к звонку.
Секретарь внес поднос, заставленный чайной посудой. Стоя в дверях, он оглядывался, не приближаясь. «Поставь на журнальный», – владыка приказал коротко. Тень удивления мелькнула в вышколенных глазах, но, опустив их почтительно, иподьякон поднес к дивану. «Проходите, садитесь, здесь удобнее», – владыка Николай улыбался. Выходя из-за стола, он снял с головы скуфью.
Помешивая горячий чай, он говорил о том, что в таинствах есть известная жесткость, точнее говоря, непреклонность, которую люди, далекие от церковной жизни, склонны называть чрезмерной. Однако она уравновешивается неиссякаемой милостью, и эта милость выше человечности. Гуманизм – старый соблазн, с которым сталкивается человечество, но там, где выбирают человечность, не остается места для божьей милости. Взять протестантов. Выбрав человечность, они отказались от таинств. Вынуждены были отказаться, потому что в этом выборе наличествует неисповедимая тайна: нельзя ставить человека во главу мироздания. Это – нарушение иерархии. Слово, которое он произнес, мы тоже понимали по-разному.