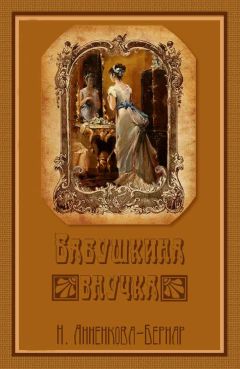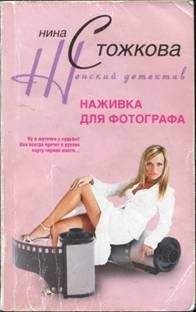Даниэль Кельман - Убить

Обзор книги Даниэль Кельман - Убить
Даниэль Кельман
Убить
Первым делом эта собака. Она торчала там. Вечно торчала там. Огромная овчарка – светлая шерсть, свисавшая чуть ли не прядями, уши торчком и продолговатые красные глаза, в которых не отражалось ничего, кроме слепой злобы. И конечно же зубы; да какие зубы!
Она уже три года назад там околачивалась. И пять лет назад. И даже десять. Всегда стояла за забором, впившись в тебя глазами, потом медленно обнажала зубы, а из пасти раздавалось тихое низкое рычание.
И это все омрачало – каждый день, каждую ночь (ведь по ночам начинался лай; она облаивала машины, месяц или видения из своих снов). Ее держали соседи: вечно потный толстяк, неразговорчивый, гордившийся тем, что пес мог загрызть насмерть. Соседа побаивались, но, вероятно, просто потому, что его образ прочно связался с образом его питомца: овчарка была злом, подстерегавшим в засаде, страшной опасностью, грозившей оборвать каждое мгновение. Все надеялись, что в один прекрасный день собака исчезнет или умрет; но она жила. Она казалась бессмертной.
Настоящий ад наступал в летние каникулы. Когда от травы поднимался желтый жар, небо, словно из раскаленного железа, висело низко и тяжело, время стояло на месте, и все замирало, во всем мире. И оставалось только сидеть на полу и листать комиксы (ну и идиот же этот Микки) и слушать телик – смотреть не стоило. А еще: однообразный, как текучая вода, шум автомобилей под мостом. Ко всему этому прибавить лай и изредка гул самолетов. Так было в десять лет, в одиннадцать, в двенадцать. Казалось, ничего не изменится. И в тринадцать. И в четырнадцать.
Он зевнул. Зевнул еще раз и посмотрел на часы: почти все то же, что и пятнадцать минут назад. Солнце нещадно палило, отражаясь на подоконнике, паучок бежал вверх по стене. Он снова зевнул.
Сестра перевернула страницу журнала. Гудел телевизор. Вот и на нее напала зевота. Она на два года старше: короткая юбчонка, блузка без рукавов; белые груди не слишком большие, зато четко обозначенные. Он медленно поднял на сестру глаза. Но та не обратила никакого внимания.
Паук добрался до потолка, остановился, словно пятно на обоях. По телику с музыкой шла реклама моющих средств: домохозяйка улыбалась, размахивая полотенцем…
– Когда, – спросил он, – будем есть?
– Что? – не глядя, спросила сестра. И перевернула страницу.
Ответа не последовало. Рядом залаяла собака. Тень о четырех лапах мелькнула на подоконнике, озаренная встречным светом, – кошка. Вероятно, соседская. Провела хвостом по стеклу, движения легкие, удивительно нежные. Спрыгнула с подоконника, растворилась в ярком свете.
По телевизору показывали человека: тощего, бледного, в водолазке. Рядом на кухне что-то звякнуло и разбилось.
«Вопросы, – сказал человек, – которые встают перед, нами, которые ставятся нами. Ибо все мы… – голос слишком высокий и какой-то неуверенный. Словно микрофон был не в порядке. – Блаженный Августин говорит о небытии, об отсутствии, в определенном смысле – о бреши. Мы называем это «злом», но такое определение сбивает с толку. Речь идет всего лишь об отсутствии добра, зло само по себе, не… – как бы получше выразиться? – зло нереально».
– Выруби! – сказала сестра. И перевернула страницу. Паук скрылся. Из кухни послышался скребущий шум: подметались осколки.
«Ибо сущность зла – именно в небытии и в отсутствии. Поэтому оно бессильно, поэтому нереально, не…»
– Выруби!
Он не хотел. Не потому, что было интересно, а просто так – он никогда не делал того, о чем она просила. Бабочка стукнулась о стекло, крылья с темно-красным отливом, в лучах солнца кружились серебристые пылинки. Он зевнул, на глазах выступили слезы, и комната расплылась в светлом тумане. Нащупал пульт: не затевать же ссору из-за этой ерунды! Нажал кнопку выключателя: водолазка стушевалась в электрической вспышке. Экран почернел, и в нем словно в зеркале отразились окно, диван, а внизу – он, сидящий на корточках: малорослый (все говорили – коротышка), нерасчесанные волосы, мятая рубашка.
Он поднялся. Ноги болели, левая зудела, почти затекла. Направился к двери – когда поравнялся с сестрой, та даже не удостоила его взглядом, – и вышел на улицу. В сад.
Зажмурился, яркий свет резал глаза, вспышкой отдаваясь в голове. А теплый воздух как стоячая вода, шаг – и она вяло потекла вокруг ног, рук, шеи. Он стоял и ждал, надо было привыкнуть.
Впереди раскинулась лужайка, пять на десять, за ней – зеленый забор из проволоки. За забором (лучше не смотреть) что-то шевелилось – собака. Перед забором – цветочки, и они качались туда-сюда, хотя ветра не было. А он бы не помешал. На лужайке, в самой середине, разлеглась кошка.
Собственно, она даже не лежала, а ползла. Тело на земле, голова опущена, лапы поджаты. Причудливые плавающие движения, беззвучные, усы и волосики на ушах светились, когти на лапах – но, возможно, это только казалось – далеко выпущены. Красная бабочка приземлилась на траву, на секунду замешкалась, а потом полетела дальше, вспыхивая маленьким огоньком. А вон и другая котяра. Крупнее первой, с длинной пушистой шерстью. Уставились друг на друга, изогнувшись и выпучив глаза. Их разделяло метра два, а может, и меньше. Да еще жара, да яркий свет, да неподвижный воздух; одна тихо зашипела, другая подалась назад, немного, на несколько сантиметров…
Раздался смех сестры. Он обернулся: та отложила журнал, откинулась назад и, хихикая, смотрела через открытую дверь.
– Заигрывают, – пояснила она. – Мальчик и девочка. Прелесть, правда?
Вдруг одна кошка прыгнула – другая, фыркнув, отступила, но совсем чуть-чуть, и потом, на долю секунды, обе превратились в вертящийся визжащий шерстяной клубок; вдруг он распался – одна кошка пустилась наутек, в заросли, другая устремилась за ней, и обе скрылись; некоторое время еще качались и шуршали кусты и маленькие листочки сыпались на землю, а рядом заливался пес; потом все кончилось. Наступила тишина, только собака рычала да выла машина, заведенная каким-то болваном. И опять появилась бабочка. Сестра все еще покатывалась со смеху, он пожал плечами и пошел.
Через калитку, на улицу. Здесь не было ни души: асфальт блестел, на капотах припаркованных машин светились солнца. Перед каждым забором стоял черный мусорный бак. В воздухе носился легкий запах еды, пахло жареным и овощами – все эти людишки сейчас готовили. Он сунул руки в карманы и побрел дальше.
Несколько шагов собака сопровождала его по другую сторону забора. Молча и сосредоточенно; он старался туда не смотреть. Собака издала низкий странный звук, не похожий на рычание. Он ускорил шаг, начался другой забор, за ним следующий; он с облегчением вздохнул.
И вдруг остановился, нагнулся и что-то поднял: красный кирпич. Нога болела, резкая обжигающая боль, кой черт бросил здесь кирпич! Захотелось швырнуть его подальше, но потом… он зашагал вперед. Кирпич лежал в руке. На ощупь шероховатый и твердый, ощущение на редкость приятное. Дорога шла в гору, поднималась, переходя в мост. По середине моста – точно посередине, на это указывала маленькая белая метка на перилах – он остановился. Он сам ее сделал, уже много лет назад.
Там, внизу, проселочная дорога, обсаженная деревьями: зелеными шишковатыми вязами с переливающимися листьями. И никакого движения, до самого горизонта, и это было почти красиво. А вот и машина: растущая точка обретала формы, принимала очертания, гудя, приближалась, шмыгнула и со свистом – словно кто-то втянул в себя воздух – скрылась под мостом, снова вынырнула с другой стороны, гудение становилось ниже, машина уменьшалась, растекаясь в ярком свете, исчезла. На некоторое время воцарилась тишина, потом показалась следующая машина. Словно кто-то всем заправлял, следя за тем, чтобы правильно соблюдались минутные интервалы. Так уж издавна повелось.
Невзирая на палящее солнце, он не потел, жара была совсем сухая, насыщенная одним только светом, светлым теплом, никакой влажности. И все равно ветерок пришелся бы очень кстати.
Он взялся за перила и в испуге отдернул руку; боль впилась в кожу и теперь медленно отпускала. Железо (он дотронулся еще раз, осторожно, одним пальцем) накалилось – не прикоснуться. Справа от дороги стояли дома: с крышами, красными дымовыми трубами, антеннами; слева развернулись луга, коричневые незасеянные пашни, а дальше – холмы, холмы до самого горизонта: низкие зеленые волны, словно намертво вмерзшие в землю. Окраина. Здесь никогда ничего не случалось. Здесь было покойно, мирно и ничем не примечательно; наверно, как там, куда попадаешь после смерти, где ничего не происходит и не произойдет никогда. По правую руку лежал город. Маленький городок – он знал здесь каждую улицу, каждый дом, но какой в этом толк… Прочь отсюда! Вот если бы уехать, не важно, как и куда!.. Главное, подальше!
Он сел, просунув ноги между прутьями перил. Асфальт был жесткий и теплый; он видел все как через решетку, словно его заперли; ноги свешивались через край моста в пропасть; болтая ими, он чувствовал воздух, который ощущался почти как ветер, прохладный и приятный.