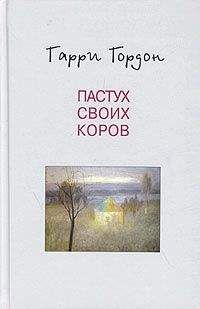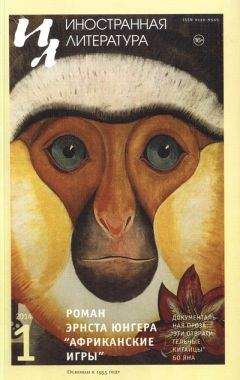Маленький журавль из мертвой деревни - Янь Гэлин
Зато Эрхай хорошо помнил ее кровь. Кровь Сяохуань носили из палаты тазами, и старенький врач уездной больницы тоже оказался с ног до головы одет в ее кровь. Разведя багровые руки, он стоял перед семьей Чжан:
— Решайте, кого спасать — мать или дитя.
Эрхай ответил:
— Мать.
Родители молчали, а врач все стоял на месте. Взглянув на Эрхая, он тихо предупредил, что если спасти Сяохуань, она больше не сможет родить, у нее там живого места не осталось.
— Тогда спасайте дитя. — вставила старуха.
Эрхай прокричал доктору в спину:
— Спасите мать! Спасите Сяохуань! — Врач обернулся: пусть родственники решат спор. Начальник Чжан еще раз от лица семьи объявил:
— Если можно сохранить только одну жизнь, спасайте внука семьи Чжан.
Эрхай вцепился доктору в ворот:
— Ты кого слушаешь?! Я отец ребенка, я муж Сяохуань!
По правде, Эрхай не помнил за собой такого. Это потом Сяохуань ему рассказывала. Она вспоминала: «До чего же ты брыкливый, перепугал старенького доктора, он из-за тебя чуть штаны не намочил!» Потом Эрхай крутил это в голове снова и снова: значит, он любит Сяохуань, раз сказал те самые слова, от которых старенький доктор чуть штаны не намочил. И не просто любит, а так, что готов идти против воли родителей, готов пресечь род семьи Чжан, любит всей душой и всем сердцем.
Повозка завернула во двор Чжу. родители Сяохуань вынесли на улицу скамейки, чтоб Эрхай с матерью выпили чаю на солнышке. Семья Чжу в селе считалась зажиточной, у них было тридцать с лишним му [22] хорошей земли, да к тому же они торговали масличными семенами. Теща и кричала, и бранилась, еле заставила Сяохуань выйти из дому. Та коротко поздоровалась со свекровью и удивленно вытаращилась на мать:
— А кто это в новой стеганке? Мы его звали? Как это у него стыда хватило приехать?! — говорила она резко, отрывисто, никого не стесняясь.
Старики Чжу вместе со сватьей деланно засмеялись, а Эрхай знай себе пил чай. У него словно камень с души упал — какая же Сяохуань понятливая, из этакой заварухи разыграла обычную супружескую ссору. По лицам тестя с тещей он видел: жена не сказала им, что на самом деле случилось.
На круглом личике Сяохуань сияли румяные щечки, веки у нее были сплошными припухлыми складками, а под ними прятались густые ресницы, и когда на Сяохуань ни посмотри — кажется, что она только встала с кровати. Жена была остра на язык, да и посмеяться любила; когда смеялась, на левой щеке у нее выступала ямочка, а уголок рта подпрыгивал, открывая зуб с тоненькой золотой каймой. Эрхай терпеть не мог людей с золотыми зубами, но этот зуб так и сверкал в улыбке и совсем Сяохуань не портил. Эрхай жену красавицей не считал, но людям она нравиться умела еще как, со всеми была ласкова и сердечна, даже когда бранилась.
Родители Сяохуань вынесли узел с лепешками, сказали, что тут хватит троим перекусить в дороге.
Сяохуань взвилась:
— Кому это троим? Кто это вместе с ними поедет?
Мать шлепнула ее по макушке, велела собирать вещи и ехать к мужу, родители ее больше кормить не собираются. Только тут Сяохуань передернула плечами, скривилась и нырнула в дом. Через минуту она уже вышла с платком на голове, на ватных штанах — обмотки. Вещи у нее, конечно же, были давно готовы, она собралась тут же, как услышала, что приехали муж со свекровью. Обычно неподвижные губы Эрхая дрогнули в улыбке: повезло ему с Сяохуань — и поругалась кстати, и помирилась вовремя.
Глава 2
Как-то апрельским утром япошка сбежала. Сяохуань встала пойти до ветру и заметила, что засов на воротах открыт. Едва рассвело, и кому приспичило идти со двора в такую рань? Выпавший за ночь снег прикрыл землю тонким сизым слоем, в снегу виднелась цепочка следов — она тянулась от восточного флигеля, заворачивала на кухню и уходила за ворота. Япошка с родителями Эрхая жила в северной комнате.
Сяохуань вернулась к себе, растолкала мужа:
— Волчицу-то японскую откормили. Она и убежала.
Эрхай открыл глаза. Вместо того чтоб переспрашивать: «Чего говоришь?» — он раскрывал свои верблюжьи глаза докуда мог; это значило, что собеседник, по его мнению, несет вздор, но пусть повторит свой вздор еще раз.
— Точно убежала! Уж твои матушка с батюшкой ее сладко поили, вкусно кормили, вот и выкормили японскую волчицу. Нагуляла жиру, побежала обратно в горы.
Эрхай, выдохнув, сел. Не слушая едкие насмешки жены (ох и жаден ты до этой японской бабенки, лет ей маленько, а уж умеет угодить мужику!), Эрхай торопливо натянул штаны, стеганку.
— Отец знает?
Сяохуань не унималась:
— Выгодная покупка, ничего не скажешь: за семь даянов столько раз с ней переспал! Как горбатому на рельсы ложиться — сплошная прибыль [23]. Загляни в любой кабак с нелегальными шлюхами — за ночь там целую горсть серебра придется выложить.
Эрхай разозлился:
— Закрой рот. Снег на улице, замерзнет насмерть — что делать будем?!
Выскочил во двор, а Сяохуань все кричала ему в спину:
— Надо же, как торопится! Смотри не упади: зубы выбьешь, целоваться станете — изо рта засквозит!
Мать посмотрела в доме, оказалось, япошка ничего не тронула, взяла только несколько кукурузных лепешек. И оделась в то, что было на ней в мешке. Все вспомнили, как усердно она отстирывала свои японские штаны и кофту, как старательно прогладила их дном чайника, потом аккуратно сложила — значит, тогда еще готовила пожитки, чтоб сбежать. Мечту о побеге заносило снегом, заметало вьюгой, но она уцелела, пережила долгую зиму.
— Вот ведь япошка, и одежду нашу китайскую не оценила. Замерзнет, как пить дать! — пообещал начальник Чжан.
Мать стояла, оцепенев, с той самой стеганкой в руках — синие цветы по красному. Жили вместе полгода, она япошку почти за невестку считала, а та удрала, все равно что от чужих. На стеганке лежало еще две пары новых полотняных чулок, подарок Сяохуань. Никакой благодарности у человека. Начальник Чжан надел шапку, собрался на улицу. Эрхай тоже торопливо натянул шапку, обулся, не глядя на Сяохуань: покуривая трубку, она привалилась дверному косяку и с недоброй улыбкой смотрела на разыгравшийся в доме спектакль. Эрхай проскочил мимо, а она с деланным испугом шарахнулась в сторону, словно уворачивается от здоровенного быка, который вырвался из загона.
Начальник Чжан с Эрхаем по следам дошли до въезда в поселок, там отпечатки ног терялись в следах телег и повозок. Гадая, как искать дальше, они стояли, засунув руки в рукава. В конце концов решили разделиться. Злость жгла Эрхаю сердце, но винил он родителей: нечем заняться было? Нашли беду на свою голову! Сколько сил вымотала у семьи эта полудохлая япошка? Сколько ругани из-за нее было? Сейчас девчонки и след простыл, а Эрхаю всю жизнь слушать упреки, до самой смерти Чжу Сяохуань будет в своем праве.
Они с япошкой друг другу чужие, и общая кровать их ни на волос не сблизила. В первую ночь Эрхай услышал, что девчонка плачет. Он пришел к ней исполнить долг перед матерью с отцом, но услышав это хныканье, озлобился. Какого черта плакать? Будто он вправду ее обидел. Эрхай к ней по-хорошему, хотел сделать все тихо, осторожно, а она лежит — покорная, словно уже приготовилась к его скотству. Ну что ж, скотство и получай. Он быстро закончил, а япошка все всхлипывала; еле сдержался — руки чесались схватить эту гадину за отросшие волосенки и вызнать, что ж ее так обидело.
С того дня япошка ложилась перед ним, словно покойница: в опрятной одежде, подбородок задран вверх, пальцы ног смотрят в потолок — от мертвой не отличишь. Приходилось самому снимать с нее одежду; однажды, раздевая япошку, он вдруг понял, до чего мерзко и подло выглядит со стороны. А ей того и надо — сделать из него мерзавца. Спеленала себя одежками, обрядилась и лежит — точь-в-точь живой мертвец, чтобы он, срывая ее тряпки, чувствовал себя хуже животного, будто труп насилует. Эрхай рассвирепел — хорошо же, я и буду с тобой хуже животного. Твои отец и братья так с нашими женщинами и обходились.