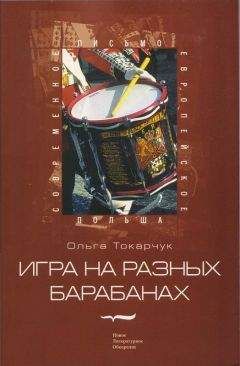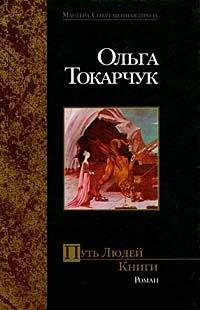Веди свой плуг по костям мертвецов - Токарчук Ольга
Так мы пели около часа, все одно и то же, пока слова не перестали что-либо значить, словно это была морская галька, которую непрестанно обтачивают волны, делая камешки круглыми и похожими друг на друга, как песчинки. Вне всяких сомнений, это давало передышку, мертвое тело утрачивало реальность и наконец превратилось в повод для встречи измученных тяжким трудом людей на ветреном Плоскогорье. Мы пели о Свете, который, правда, существует где-то далеко и пока неразличим, но стоит нам умереть, как мы его узрим. Сейчас мы видим его сквозь стекло, в кривом зеркале, однако когда-нибудь предстанем прямо перед ним. И он окутает нас, ведь это наша мать – этот Свет, из него мы появились. И даже носим в себе его частицу, каждый из нас, даже Большая Ступня. Поэтому, в сущности, смерть должна нас радовать. Так я размышляла, пока пела, хотя на самом деле никогда не верила в некое персонализированное распределение Света. Никакой Господь не станет этим заниматься, никакой небесный бухгалтер. Как может столько выстрадать одно существо, тем более всеведущее? – думаю, оно бы рассыпалось под натиском этой боли, разве что заранее обеспечило бы себе какие-то защитные механизмы, подобные человеческим. Только машина в состоянии вынести всю мировую боль. Только механизм – простой, эффективный и справедливый. Однако если бы все происходило механически, к чему тогда наши молитвы?
Когда я вышла во двор, оказалось, что усатые мужчины, пославшие за ксендзом, уже приветствуют того возле дома. Он не смог проехать из-за снежных заносов, где-то застрял, и лишь теперь удалось привезти его на тракторе. Ксендз Шелест (так я его про себя назвала) отряхнул сутану и ловко спрыгнул на землю. Ни на кого не глядя, быстро вошел в дом. Я стояла так близко, что ощутила его запах – одеколона и печного дыма.
Оказалось, что Матоха нашел чем заняться. Одетый в свой рабочий тулуп, он, подобно церемониймейстеру, наливал из большого китайского термоса кофе в пластиковые стаканчики и раздавал присутствующим. Итак, мы стояли перед домом и пили горячий, сладкий кофе.
Вскоре приехала Полиция. То есть не приехала, а пришла, потому что машину они вынуждены были оставить на асфальтированной дороге – за неимением зимних шин.
Это были двое полицейских в форме и один в штатском, в длинном черном пальто. Прежде чем, отдуваясь, они добрались в своих облепленных снегом ботинках до крыльца, мы все вышли на улицу. Продемонстрировав, как мне кажется, любезность и уважение к представителям власти. Те, что в форме, вели себя сухо, подчеркнуто официально, и было заметно, что они едва сдерживают злость на весь этот снег, долгий путь и вообще обстоятельства данного дела. Отряхнули ботинки и молча скрылись в доме. А незнакомец в черном пальто ни с того ни с сего подошел к нам с Матохой.
– Ну здравствуйте. Добрый день. Привет, папа.
Он сказал: «Привет, папа», – и эти слова относились к Матохе.
Я бы никогда не подумала, что у Матохи может быть сын-полицейский, да еще в таком забавном черном пальто.
Матоха довольно неловко представил нас друг другу, он был смущен, но я даже не запомнила официального имени Черного Пальто, поскольку они сразу отошли в сторону и я услышала, как сын распекает отца:
– Ради бога, папа, зачем вы трогали тело? Вы что, кино не смотрите? Всем известно: что бы ни случилось, до приезда Полиции тело трогать нельзя.
Матоха робко оправдывался, точно его угнетал разговор с сыном. Я думала, что будет наоборот, что разговор с собственным ребенком придаст ему сил.
– Он выглядел ужасно, сынок. Ты бы тоже так поступил. Он чем-то подавился, тело было все выкручено, в грязи… Это же наш сосед, мы не хотели оставлять его на полу, как, как… – Матоха подыскивал слово.
– …животное, – уточнила я, подходя ближе; невозможно было слушать, как Черное Пальто выговаривает отцу. – Он подавился костью убитой Косули. Месть браконьеру с того света.
Черное Пальто мельком взглянул на меня и обратился к отцу:
– Папа, тебя могут обвинить в том, что ты запутываешь следствие. И вас тоже.
– Ты, наверное, шутишь! Вот так дела… А ведь у меня сын прокурор…
Тот решил завершить этот неловкий разговор.
– Ну ладно, папа. Позже вам обоим придется дать показания. Возможно, будут делать вскрытие.
Он похлопал Матоху по плечу, и в этом ласковом жесте ощущалось чувство превосходства, как будто сын говорил: ладно, старик, теперь я этим займусь.
После чего он исчез в доме покойного, а я, не дожидаясь вердикта Полиции, отправилась домой, замерзшая, с охрипшим горлом. С меня хватит.
Из моих окон было видно, как со стороны деревни приближается снегоочистительная машина, которую все здесь называли Белоруской. Благодаря ей вечером к дому смог подъехать катафалк – длинный, приземистый, темный автомобиль с черными занавесками на окнах. Но только подъехать. Когда около четырех, перед самым наступлением темноты, я вышла на террасу, то заметила вдалеке движущееся по дороге черное пятно – это усатые мужчины самоотверженно толкали катафалк с телом товарища в гору, к вечному покою в сиянии Вечного Света.
Обычно телевизор включен целый день начиная с завтрака. Это меня успокаивает. Когда за окном царит зимняя мгла или рассвет уже через несколько часов незаметно обращается во Тьму, возникает ощущение, будто там ничего нет. Выглядываешь наружу, а стекла отражают лишь то, что внутри, – кухню, маленький, захламленный центр Вселенной.
Затем и телевизор.
У меня большой выбор программ; антенну, похожую на эмалированный таз, привез однажды Дэн. Она ловит несколько десятков каналов, но это слишком много. И десяти было бы много. И двух. Собственно, я смотрю только прогноз погоды. Разыскала этот канал и счастлива, что могу получить все, в чем нуждаюсь, поэтому даже пульт куда-то задевала.
Так что меня с самого утра сопровождает картина атмосферных фронтов, идеальные абстрактные линии на картах, синие и красные, неумолимо приближающиеся с запада, с чешского и немецкого неба. Они несут воздух, которым только что дышала Прага, а может и Берлин. Который пришел с Атлантики, пронесся над всей Европой – можно сказать, что воздух у нас здесь, в горах, морской. Особенно я люблю, когда показывают карты атмосферного давления, которые объясняют внезапное нежелание встать с постели, боль в коленях или что-то еще – необъяснимую печаль, которая очевидно сродни тропосферному фронту, капризной змеевидной линии в земной атмосфере.
Меня трогают спутниковые фотографии и кривизна Земли. Значит, это правда, что мы живем на поверхности шара, открытые всем планетам, заброшенные в огромную пустоту, где рассеялся, собравшись после Падения в мелкие крошки, свет? Правда. Следует ежедневно напоминать нам об этом, потому что мы забываем. Нам кажется, будто мы свободны, а Бог нам простит. Лично я так не считаю. Любой поступок, превратившись в едва ощутимое колебание фотонов, в конце концов устремится в Космос, словно фильм, который планетам предстоит смотреть вечно.
Когда я завариваю себе кофе, обычно передают прогноз погоды для лыжников. Демонстрируют шероховатый мир гор, спусков и долин и прихотливый снежный покров – на шершавой коже Земли лишь кое-где белеют лоскуты снега. Весной на место лыжников приходят аллергики, и картина становится более красочной. Плавные линии обозначают опасную территорию. Где красное, там природа атакует яростнее всего. Целую зиму она ждала в дреме, чтобы теперь наброситься на хрупкую иммунную систему Человека. Однажды она окончательно от нас избавится. Перед выходными показывают прогноз погоды для водителей, но их мир сводится к нескольким линиям немногочисленных отечественных автострад. Такое разделение людей на три группы – лыжники, аллергики и водители – представляется мне весьма убедительным. Классификация продуктивная и нехитрая. Лыжники – гедонисты. Они мчатся по горным склонам. Водители предпочитают держать судьбу в собственных руках, хотя от этого часто страдает спина; оно и понятно, жизнь – бремя нелегкое. Зато аллергики – постоянно на линии фронта. Я, вне всяких сомнений, аллергик.