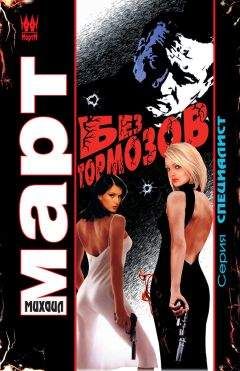Людвик Ашкенази - Детские этюды
Передавая друг другу дела, почтальоны, наверное, говорят:
— Да, ещё есть тут такая Крушинова, так она каждое утро будет спрашивать письмо…
И значительно переглядываются — значительно и многоопытно, таким взглядом, каким обмениваются взрослые над головой ребёнка.
Дети с нашего двора очень любят пани Крушинову, любят беспричинно, как это бывает у детей. А пани Крушинова вовсе и не старается завоевать их симпатию. Иногда поговорит с ребёнком в молочной, скажет что-нибудь совсем обыкновенное, вроде:
— А я сегодня утром слышала, как ты пела, Божена…
Улыбка у неё какая-то отсутствующая, и она, видно, экономит электричество: по вечерам у неё почти никогда не горит свет. Живёт она скромно, питается хлебом и молоком.
По утрам дети поджидают Крушинову в подъезде и, когда почтальон уходит, спрашивают:
— Опять ничего?
— Ничего, — отвечает Крушинова, — ничего мне не было, дети.
И всем становится грустно, как будто к ней и в самом деле могло откуда-нибудь прийти письмо. Однажды Человечек пришёл и говорит:
— Папа, у нас есть тайна, самая настоящая. И никому нельзя её узнать, даже тебе.
— Всё равно ведь ты мне скажешь, — покачал я головой.
— Разве ты умеешь хранить тайны?
— Не бойся, — сказал он, — про эту тайну я тебе не скажу. Потому что мы с Боженой хотим написать письмо, и это секрет. Это письмо будет для пани Крушиновой, только об этом никому нельзя знать. Даже тебе…
Так тайна была выдана.
И если уж я о ней знаю, так прочитаю это письмо и вам:
«Дорогая пани Крушинова!
Вы ждёте письмо, и поэтому мы вам пишем. Чтоб вы тоже получили письмо. Божена нарисовала вам вербу.
Ответьте нам.
А внизу нарисована курица, как она клюёт зерно. А зелёное — это почтальон, он лежит на траве.
С уважением дети».
Вот какое было письмо, а рисовала Божена.
Письмо мы послали, и вчера почтальон удивлялся, почему Крушинова больше не выходит встречать почту. Но дети ничего ему не сказали, потому что это тайна.
Как мы искали счастье
Мы долго говорили о счастье. Такой вопрос встаёт перед каждым, стоит только попристальнее оглядеться вокруг — например, когда над лесом выплывает луна. И тут ещё кто-то спрашивает тоненьким, взволнованным голосом:
— Папа, как узнают счастье?
И доверчиво смотрит на того, кто стоит рядом, потому что этот другой — взрослый и знает, почему листья зелёные, а земля круглая.
А этот взрослый приходит в замешательство, ничего не отвечает, и оба смотрят на круглую луну над лесом. Да ещё тут лягушки квакают — этим-то всё безразлично.
Одни только люди любопытны. В конце концов решили мы подстеречь счастье — как только оно объявится, сейчас же и скажем друг другу. Так мы его и узнаем…
Об этом мы договорились, когда были на даче; а потом вернулись в город.
На площади раскинулась небольшая ярмарка. Там скорее всего найдёшь счастье. Потому что на ярмарке можно выиграть в тире негритёнка, бумажную розу, можно зайти в собачий театр, где выступают собака-охотник, собака-борец и собака-велосипедист, и ещё можно купить розовую сахарную вату или турецкий мёд.
И всё это, может быть, счастье. Первым долгом купили мы сахарную вату. Она была розовая, пышная, будто маленькое вечернее облачко слетело на землю и его нацепили на палочку.
— Ну и как, — спросил я, — это счастье?
— Да, — ответил сын, — это счастье. Сахарная вата — счастье.
Но мы съели всю вату, и остались одни палочки.
А палочки мы выбросили.
— Нет, — сказал сын, — никакое это не счастье. Вот если б есть сахарную вату с утра до вечера — но тогда объешься.
Он был прав, и мы решили попытать счастья в тире.
Нам удалось выиграть только один некрасивый синий букетик. А было там ещё много жёлтых, красных и лиловых бумажных роз и куча других ценных вещей. Но всё ведь не выиграешь…
— Счастье нам улыбнулось, — сказал я, — другим-то даже синих цветков не досталось.
Но какое счастье было бы выиграть большую куклу в белой фате или негритёнка в тюрбане! Вот это было бы настоящее счастье!..
Мы договорились, что завтра попробуем снова.
А когда мы утром проснулись, то площадь уже опустела и ярмарку сняли. Не было ни карусели, ни собачьего театра, ни Лох-Несского чудища, ни тира.
Ни нашего счастья.
Бродили мы по площади и всё думали, где же нам теперь его искать.
— Лучше спросить у кого-нибудь, — сказал я. — Но у кого? Да и сумеет ли кто объяснить…
— Придумал, — сказал Человечек, — об этом должен знать Страка, потому что Страка умеет чинить электрические пробки и играет на гитаре. И Страку всегда застанешь дома — он ведь на пенсии.
Этот Страка живёт на нашей улице и всегда сидит на стульчике перед домом. Человек он хороший, только в критические минуты начинает ругаться по-венгерски, это у него с Первой мировой войны.
Нашли мы его во дворе под каштаном, на старой кушетке. На нём были полосатые штаны и чистая рубашка. Солнце светило ему прямо в лицо, и он лежал с закрытыми глазами.
— Здравствуйте, дедушка, — поздоровались мы. — Скажите, пожалуйста, как узнают счастье?
Только теперь мы увидели, что он спит. И что так хорошо ему на этой кушетке, он даже посвистывает носом и сладко отдувается, погружённый в приятные сны. Впрочем, может быть, ему ничего и не снилось.
Что с ним поделаешь?
Мы были разочарованы, потому что сильно надеялись на этого Страку. А оказывается, нельзя понадеяться даже на та-кого, как он, человека.
— Вот что, — сказал я, — пусть себе спит. Пусть он как следует выспится. Он это любит… А нам ведь не обязательно сегодня же знать, как узнают счастье. Можно и завтра спросить…
— Мы можем даже послезавтра зайти, — согласился Человечек. — Правильно, папа, нам ведь не к спеху.
И мы оставили Страке свой бумажный синий букетик — положили ему на полосатые штаны.
Завтра продолжим поиски, — может, что-нибудь и узнаем.
А вы тоже ищите, кто как может.
Книга жалоб, или Печёнка
Во вторник мы поссорились.
Да, вам-то всё можно, — сказал Человечек, — а мне ничего… Если вам что-нибудь во мне не нравится, вы меня ругаете. А вдруг и мне что-нибудь не нравится в вас?
Он говорил так решительно, и было видно — это уже не игра. Он даже настаивал на ответе. И припомнил, как я недавно объяснял ему, что такое демократия и почему её нет у нас дома. И что его угнетают как ребёнка.
Мы тебя кормим, — сказал я, — и поэтому ты обязан нас слушаться. Вот вчера тебе понравилась марионетка, и мы сейчас же её тебе купили. И во всём мы идём тебе навстречу. У тебя есть солдатики и самокат…
Это-то верно, — ответил он. — Только ты говорил, что у всех людей равные права, а у меня никаких прав нет.
Мы долго не могли уснуть, и мама спросила:
— Что же теперь делать?
Ничего, — заявил я, — это обыкновенный бунт. Нельзя терпеть такие взгляды. Такие взгляды надо искоренять в зародыше. Ведь он грубит нам! Может, в виде профилактики напомнить ему кое-какие старые шалости?
Но тут и она стала жаловаться, как её угнетают. И уснула, не подозревая всей глубины проблемы. Я же не спал — меня вдруг охватили угрызения совести.
Так мы завели книгу жалоб — пусть будет демократия для всех. Утром, когда ходили за булочками, купили по дороге тетрадь и принесли её домой, сознавая, какой великий перелом совершается в нашей жизни.
Затем мы всё подробно разъяснили Человечку.
— Если тебе что-нибудь не понравится, — сказал я, — то вот жалобная книга. Каждый из нас — мама, я и ты — имеет право записать сюда свою жалобу. А в субботу будет собрание. Мы рассмотрим все жалобы и выработаем точку зрения. Это и есть равноправие.
Очень ему понравились слова «точка зрения». Они пробудили в нём великие надежды. Жалобную книгу он забирал с собой в постель и всё время размышлял, на что бы ему пожаловаться.
— Ты не знаешь, папа, какой-нибудь хорошей жалобы? — спрашивал он.
И считал дни, когда же наконец настанет суббота. К концу недели в книге появились следующие жалобы:
«Среда. Мама не дала мне бинокль, а бинокль для всех».
«Пятница. Я не люблю печёнку, а меня заставляют её есть. Папа тоже не любит печёнку, и он печёнку не ест».
С нашей стороны были свои жалобы, но о них я упоминать не буду.
Всем нам было любопытно, что же произойдёт на собрании. Мы даже украсили комнату, а над столом повесили портрет Макаренко[7]. Ровно в два часа дня собрание было открыто. Все уселись вокруг стола, а Человечек прямо икал от волнения.
— Приступаем, — сказал я, — к рассмотрению записей в книге жалоб. Кто просит слова?