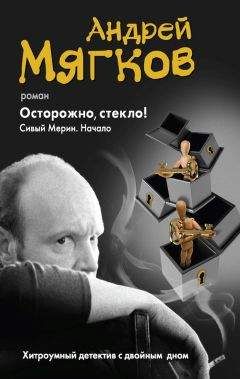Андрей Молчанов - Новый год в октябре
Человек не хочет прожить жизнь даром и потому бьется за свои или же чужие идеи, чтобы отогнать от себя страх за бесцельное существование. Он отгоняет этот страх опять-таки неосознанно, по велению инстинкта морального самосохранения, не менее сильного чем инстинкт самосохранения физического; инстинкт самосохранения морального — это и иммунитет против мыслей о неминуемой смерти. И люди, потерявшие его, те, в который вселились мысли-микробы о неизбежной бренности и бесполезности их дел, умирают.
Сначала морально, потом физически.
Все эти умные разговоры. — сказал Лукьянов. — кончаются одним и тем же вопросом: зачем мы живем?
Ну, — сказал Авдеев. — и всамом деле, какого хрена?
А ты не в курсе? — Лукьянов, жмурясь, поглаживал теплые батареи под окном. Чтобы строить культурнейшее общество, развивать науку… Чтобы, наконец, проложить дорогу новому поколению, чьи косточки выложат следующие километры дороги.
Дорога может никуда не вести, — сказал Навашин.
Во! — заорал Чукавин скандальным своим голосом. — От таких все зло! Эгоисты и трепачи. А что он мне вчера сказал?.. Город, мол, — скопище пороков и грязи. Смог, отходы, никотин- алкоголь. Я, говорит, уезжаю вскорости в горы. Буду нюхать цветочки, смотреть на звезды и заниматься, чем хочется. А вас — на фиг.
Минутку, — встрял Лукьянов. — Ты куда это намылился, Рома?
В Осетию, — отчужденно ответил тот. — В один небольшой поселок. Буду преподавать математику в школе.
Вот так вот, — сказал Чукавин. — А математическая модель датчика и расчет «Лангуста» — это ему до фонаря.
«Лангуст» я рассчитаю, — сказал Навашин устало. — А анализатор — бред! Плод, созревший в праздной голове; плод, доказывающий, что древо познания — саженец. Врачи бессильны и уповают в своем бессилии на технику. Но рак ей не победить. Его победит лекарство. Или математика.
Хе, — сказал Чувашин. — Математика!
Да, — кивнул Навашин. — Составить систему уравнений и решить ее. Найденные неизвестные — компоненты лекарства.
Лукьянов, беззвучно смеясь, качал лысой головой.
И дело в шляпе! — выдавил он сквозь смех. — Тебе легко жить, Рома, с таким запасом идеализма, завидую. Но почему заниматься математикой в Осетии удобнее, чем здесь?
А здесь я не занимаюсь математикой, — отрезал тот. — Здесь я трачусь на прикладные, ремесленные выкладки.
Так. А какая математика тебе нужна?
Теория чисел, алгебраическая геометрия…
Она что, непременима на практике? — с интересом спросил Лукьянов. Он, чувствовалось, готовил подкоп.
Нет. Почти нет.
Ну, а философская ценность в не есть по крайней мере?
Надеюсь.
В таком случае все твои доводы, Рома, пустословны и бесполезны, как некотарые красивые формулы. А шубе, в которую ты запахиваешься людей, недостает идейной подкладки. Что здесь ты сидишь, что в горах, труд твой так или иначе перейдет к людям, хоть ты от них, мягко говоря, не в восторге. А потому ты тоже косточка на одном из метров дороги.
Которая, по твоим словам, никуда не ведет. А вообще болтовня это… Будем проще. Делай порученное дело, в нем твое счастье и так далее. Смысл.
Очень может быть. — Роман теребил бородку, густо росшую на его сухом, красивом лице. — Только, делая порученное дело, мало кто знает, для чего оно… Да и кого это интересует!
Главное — быть как все! Попади некий делопроизводитель из главка в восемнадцатый век, неплохо бы там прижился, уверен! Ходил бы в должность, получал свои рублишки, мечтал о прибавке жалования…
А между прочим… — начал Чукавин, но договорить ему не дали.
Все, братцы, — внятно объявил Лукьянов, постучав пальцем по стеклу часов. — Привал закончен. Дорога зовет.
Все, как по команде, повскакивали с мест и, стряхивая с себя крошки, загремели пустыми тарелками и чашками.
Роман отошел к своему столу, заваленному перфолентами, и, шевеля губами, застыл над ними в озабоченной позе. Округлые бугорки лопаток маленькими крылышками выпирали из- под свитера на его сутулой спине.
«А все-таки он с сумасшедшинкой, — снисходительно и грустно размышлял Прошин, в какой уже раз преисполняясь симпатии к этому человеку. — Чудило. И что ему надо? Найти формулу, за которой увилит Бога или лицо мироздания?»
Пошел я в столовку, пожалуй что, — высказался кто-то из лаборантов. — А то чай этот с философией вприкуску… Живот подвело!
--------------
К Бегунову он заглянул под вечер, но неудачно: у директора сидел заместитель министра Атнонов, дверь кабинета бдительно охранялось секретарем, и Прошину указали на кресло.
Пришлось ждать.
Сначала он нервничал, кляня высокопоставленное препятствие, потом успокоился, придвинул кресло к батарее, уселся, упершись локтем в низкий подоконник, заставленный горшочками с какой-то непривлекательной растительностью, закурил и, глядя на сгущающиеся за окном сумерки, погрузился в опустошенное оцепенение.
В «предбаннике» звенели телефоны, шла возня с бумагами, дробно и сухо, как швейная машинка, стрекотал телетайп…
И вдруг — взрыв тишины. Торжественной и напряженной, какая обычно предшествует взрыву бомбы. Главная дверь НИИ отворилась, и появился Антонов. Точнее, его живот. А уж затем пегие седины, очки в золотой оправе, дородное, суровое лицо…
Наконец-то, — отчетливо, с ленцой вырвалось у Прошина. — Наговорились. Бонзы.
Голова Антонова медленно повернулась в его сторону.
Простите, — осведомился тот с грозной иронией. — Я отнял у вас время?
Было дело, — рассеянно кивнул Прошин, отыскивая глазами пепельницу.
Бросить окурок в горшочек с казенной флорой, куда до того стряхивал пепел, было неудобно.
На лице Антонова явственно проступило удивление с первыми признаками нарождающегося гнева.
Вы тут работаете? — спросил он, глядя на Прошина, как психиатр на пациента — с каким-то сочувственным презрением.
Да, — сказал тот чуть ли не с сожалением. — Работаю, знаете ли… — И опустил окурок в пустую склянку из-под клея, заткнув ее горлышко пальцем. — Начальником лаборатории.
Ему почему-то хотелось вести себя именно так. Непочтительно. Странное дело, но подобное желание при встречах с начальством возникало у него едва ли не постоянно.
Извините, а фамилия ваша?… — с неблагожелательным интересом вопросил Антонов.
Прошин, — устало ответил тот. — Все?
Нет, не все, товарищ Прошин, — веско сказал Антонов. — Я вижу, вас не касаются приказы о курении в отведенных для этого местах…
Ай, — сказал Прошин и, словно обжегшись о пузырек, поставил его перед замеревшим секретарем. — Виноват!
Из пузырька зыбкой серой змеей тянулся дым. Уголок сигареты шипел, расплавляя засохшие на дне остатки клея, и отчетливое это шипение заполняло наступившую паузу.
Виноватых бьют, — сообщил Антонов и гадливо посмотрел на склянку. Я объявляю вам выговор.
Он потоптался, раздумывая, что бы сказать еще, но лицо Прошина выражало такое глумливое смирение, что слов у Антонова не нашлось: он пронзил наглеца фотографическим взглядом, буркнул какое- то междометие, в котором угадывалось «сукин сын», и, твердо ступая, вышел.
Ну, я к директору, сказал Прошин секретарю.
Секретарь восхищенно безмолствовал. Прошин вошел и каблуком затворил за собой дверь.
Бегунов, склонившись над столом, что-то быстро писал.
Привет! — сказал Прошин довольно бодро. — Верховодим нашей бандой?
Бегунов передвинул бумаги и поверх очков строго уставился на него.
Пришел отвлечь, — сказал Прошин, усаживаясь рядом. — Вот, — он расстегнул папку розовой кожи с инструктацией, — заявки на детали. В отдел снабжения.
По-моему, — отозвался Бегунов недовольно, — на это есть мои заместители, Далин, например… — Он небрежно подмахивал кончики разложенных ступеньками листов.
Заявки — предлог, — сказал Прошин.
Он заметил, что Бегунов подписал абсолютно чистый лист, прилипший к остальным, но промолчал.
Слушаю… — Бегунов отуинулся в кресле и потер глаза.
Я решил писать докторскую, — раздельно произнес Прошин.
Да? И на какую тему?
Тонкий вопрос, — вздохну Прошин, оглядывая загромоздившие углы кабинета модели спутников, радиотелескопов, высокие, задрапированные окна, фикус. — Создание на базе кандидатской более весомой работы. Ты как насчет научного руководства?
Не понял, — сказал Бегунов. — Тонкий вопрос насчет создания или насчет руководства?
В таком случае, — сказал Прошин, — два тонких вопроса.
Я помогу, — с сомнением проговорил Бегунов. — Только… кандидатская, насколько представляю, труд законченный. Красивое решение сложной задачи. И никаких ответвлений…
Есть ответвления, — перебил Прошин. — Нашлись.
Ну, давай, — сказал Бегунов. — Излагай.