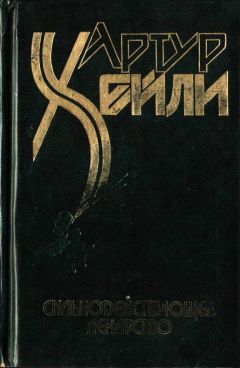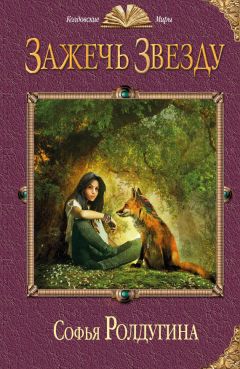Валерия Шубина - Время года: сад. Рассказы
Черт бы побрал меня с моим обветшалым представлением о гостеприимстве! Лучше бы занималась садом! По крайней мере, длилось бы обаяние тайны, связанное с непрочитанной рукописью, и предвкушение новизны. Однако нечистая сила решила иначе.
— Ну, как? — однажды спросила она.
А голос
У ней был тих и слаб — как у больной…
Уже не Ирида, а пушкинская Инеза вспомнилась. Та, о ком скорбел Дон Жуан близ Антоньева монастыря.
— О чем ты? — прошептала она тоном маленькой девочки.
Странную приятность
Я находил в ее печальном взоре
И помертвелых губах…
— Тебе не понравилось?
Ничего не оставалось, как распрощаться с донжуановской ночью лимонов и лавров и спросить без затей:
— А чего не рубишь дерево по себе? Сама вся из себя, а любовники у тебя… Или калеки — без слез не глянешь, или старички — от ветра шатаются. Главное же, те и другие от нечего делать. Зато сама в полном праве.
— А другие знаешь, что со мной учинят? А я не хочу быть жертвой.
— Ну а проза?.. Художественная, конечно. При чем здесь, когда без отвращения читаешь жизнь свою? — И, переиначив пушкинское: «И с отвращением читая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю…» — почувствовала нечто зыбкое в самом воздухе разговора.
— Господь с тобой! Как при чем! Человек нежно и кровожадно рвет незабудки. Наклоняется и говорит: «Можно взять вас с собой?» То есть оборвать ваш миг. То есть ваш век. И слышится: «Обрывай». Я же никого не принуждала. По доброй воле это не грех.
Ну что было делать, если литературу стали путать с медициной, предлагая в качестве романов, повестей, рассказов истории болезней, требующих не тиражирования, а исключительно дезинфекции?! Пришлось сказать:
— Человек, между прочим, силен не тем, что делает, а тем, что не делает. То есть что именно не пишет. А на бесспорное никто не посягает.
А разве человек — абсолют? Он не имеет области ясного выражения. Иногда это сладкий комок крахмала, большей же частью — медуза, коротающая на песке свое умирание.
— А ты скажи все это батюшке. На исповеди. Ты же верующая.
— Батюшке!.. — усмехнулась она. — Но ведь и он мужчина! Не всем дано вникать в чужое исповедание. Подробности увлекают. А когда их излишне, и у батюшки душа цепенеет, а плоть распаляется. Я же его не приветила и тогда услыхала: «Ступай вон, содомитка».
— Вот уж для ада история.
— Не думаю, что для ада. Просто он суд чинил, а был в своей черни, и взять его не тянуло. Мне ночь не закон. Я мужа бросать не собираюсь: с кем венчаться, с тем и кончаться.
— Святой человек!
— Мизантроп мой Валентин Алексеевич. Людей ненавидит. На полном серьезе считает, что изменить жене все равно что изменить родине.
— А ему просто жалко глаза твоей соперницы.
— Да я бы ее как сестру обняла. Ноги бы мыла и ту воду пила.
Разговор становился опасным. Несколько скользким. Хотя батюшка мне понравился. Не занимается дезинфекцией, самого под хлорную известь тянет. Может, и я соблазняюсь не тем… Да что наводить тень на плетень! Материал так и просился в руки. Колорит, фактура, типаж… Или я отупела от земледелия. Будущий рассказ можно было назвать: «Целую, обнимаю, глажу».
Все это не мешало мне относиться к ней хорошо и даже (о господи!) находить кое-что похожее в своей биографии, которую по части любовных историй образцовой не назовешь. Правда, я предпочитала молчать, но от этого истории не становились более нравственными.
— Кстати, — сказала я, — незабудки — это тебе не какая-нибудь трава забвения. Знаковые цветочки. Лучше не трогать. «Не чипай лихо, — говорила Лидия Владимировна, — нехай лихо спит».
— Почему?
— Иногда высшей силе ничего не остается, как перевернуть страницу Исайи.
— Может быть… Знаешь, теперь на лопатки меня положило лето. Я смотрела в небо и чувствовала себя сотворенной из той же субстанции, что облака. Они соединялись, звали меня, и это постепенно сбывалось. А еще я смотрела в пространство между деревьев. Там был разрыв, и тут мы увидели друг друга — дух сада и я. И мне захотелось прочесть духу стихи. Можно, я почитаю?
И читала. Конечно, звучал Пастернак. За городом самый обожаемый автор. К нему и другие гости питали пристрастие, особенно когда несешь из колодца воду или копаешь грядку. Подходили и голосом небожителей начинали: «Мне Брамса сыграют, Тоской изойду…» Прервать течение возвышенных строк не поворачивался язык. Приходилось терпеть. Утирать лоб косынкой. И вспоминать анекдот про Иванова и сольфеджио. Действительно смешной. Заодно отдыхать.
В очередной раз, когда гостья стала душить меня Пастернаком, я остановилась, опустила полные ведра и попросила доставить их на веранду.
— Ой! Я же платье залью и буду вся мокрая, — сказала она тихо. — Я лучше в дубраву пойду. Можно?
Звук ее голоса вмещал что-то еще, кроме слов. Может быть, ледяное дыхание сердца. А может, что-то иное… Мутное и двусмысленное. Я глянула на антоновку, возле которой разрослась земляника, и ясно почувствовала святость природы.
Нюра как раз переживала свой первый в жизни роман с четвероногим кавалером, настоящим де Грие, они не отводили глаз друг от друга. Все, что я знала о кошачьей любви, бледнело перед церемонностью этой пары. Это не был помоечный роман на скорую руку. Так опытный сердцеед дорожит невинной подругой и сам не опускается до легкой победы. Влюбленные не разлучались. Они нежились на травке, гуляли по рейкам забора, грелись на песочке, уединялись в шалаше, где скамеечка служила даме пьедесталом, а земля — подножием кавалеру. Дошло до того, что на ночь глядя Нюра привела его в дом, словно затем, чтобы честь по чести представить. В комнате и увидела их, обожающих друг друга глазами. За мной тихо последовала гостья, но идиллия вывела ее из себя. «Скунс! — завопила она — Выгнать его! Иначе мы задохнемся. Удушит пахучими метками…» Словом, ясно — все когда-нибудь поднимались по черным лестницам (и спускались тоже, особенно в коммунальные времена), помним их запах. Но дело не в этом. Голос… прямо скажу — фурии. Уж и не знаю, который лучше: прежний, безжизненный, или этот, базарный, безжалостный. «Скунс!» повторился еще пару раз и пропал так же быстро, как и возник. Привычка играть взяла свое, однако надо уметь — выскочив из роли, с места в карьер вскочить и дать мне повод посмотреть на нее повнимательней. И заметить сквозь напускное спокойствие мрак упертой досады в глазах. А мне так хотелось неведения! То есть ангелоподобия. Ведь Бог дал ей талант. Но кто-то иной, наделив бесчувствием, измельчил дар, перечеркнул.
Неугомонному де Грие пришлось замкнуться под крыльцом и тише воды, ниже травы до утра дожидаться подруги.
Утром, когда любовная парочка возобновила церемонии, гостья сказала:
— Мне не то чтобы грустно или завидно, а как-то вдруг сделалось ясно то, чего у меня нет… Даже не то чтобы нет… Просто кошке даровано больше, чем мне. А ведь я тоже кошечка.
И, взяв плед, обволокла себя им на диване, свернулась, затмив круг ломких теней, которые посылало солнце сквозь листья.
Потом прозвучало:
— Можно, я в дубраву пойду? Не то, упаси бог, наткнусь на их брачевание.
И тихо, покорно двинулась к калитке, проследовала мимо ограды, вся в белом, бледная, с темными волосами. Вернувшись в полдень, пролепетала:
— А я тебе веночек принесла. Можно, я на тебя надену?
Легко представить, что выражало мое лицо под этим веночком, когда руки по локоть в глине, которую месишь, собираясь замазывать раны деревьев. Конечно, безмятежностью Флоры оно не отличалось.
Все эти дни стояла жара, и она продолжалась, но для гостьи это была только хорошая погода, потому веночков набралась целая горка. В конце концов я спровадила все на помойку и тем выместила досаду на беса безделья, который уводил ум моей гостьи лишь в одну сторону, где она чувствовала себя как рыба в воде.
— Вот я была молодая и козлоногая, — начинала она, — а любовник у меня был на сорок лет старше…
Выкладыванию растопки для будущего костра такие высказывания явно мешали. Я замирала с раскрытым ртом, все забывала, и башенка щепок рушилась.
— Мы располагались нагие, — продолжала она, — и тонкая полоска дамасской стали зависала над нами.
А у меня тем временем рассыпались все спички из коробка, словно и на них находил непонятный дурман. С костром тормозилось. Чайник рядом оставался холодным, потому что без огня какой кипяток, электричество же в домике отключили, а газовой плиты не имелось. Суп из топора тоже чего-то ждал в кастрюле под яблоней, а денег на более интересное кушанье никто не собирался давать. Тем более святой дух, который взял на себя лишь заботу о наших талиях и сократил их как следует, о более же важных вещах не подумал.