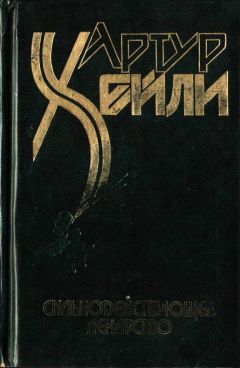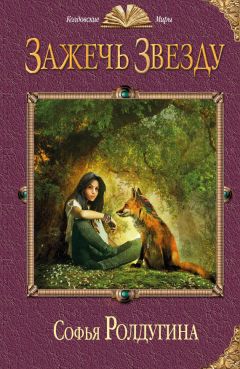Валерия Шубина - Время года: сад. Рассказы
Голос невозмутимого спокойствия с нотками укротителя и садистского превосходства подействовал. Ударил в голову, как нашатырный спирт, поднесенный к ноздрям. Отрезвил. Правда, никто не давал Орфёнову полномочий приводить меня в чувство, но не согласиться нельзя: он прав.
Чтобы представить, кто такой наш дрессировщик, скажу: Орфёнов принадлежал к тем драгоценным и в то же время страшным людям, которые не позволяют себе любить ничего, кроме искусства, и в этом качестве доходят до помешательства. Когда же человеческая природа берет в них верх, они пробуют договориться с собой, начиная искать рая за пределами доступного. Идея возлюбленной — ангела, например, не покидала Орфёнова никогда. Он желал беречь и лелеять своего ангела. Быть около него, чтобы поддерживать, улучшать его биографию. Возможно, с житейской точки зрения это бред, зато творчески — продуктивно: Орфёнов написал несколько оригинальных вещей, обыгрывая тему любовных свиданий с достоинством настоящего мужчины, а не какого-нибудь пустослова, решившего, что проза — место, где избавляются от сексуальных комплексов. Были и другие серьезные качества у нашего укротителя. В частности, Орфёнов не кантовался с московской литературной шоблой, которая лезла в верха, представительствовала и обслуживала новую власть, не имея за душой ни большой темы, ни настоящей биографии, ни, что совсем непристойно, своей интонации. Избежав в своем дмитровском захолустье столичной порчи, мэтр-эталон, таким образом, сохранил содержание человечности процентов на девяносто, тогда как в центре оно падало до пятидесяти-сорока.
Нас снова сделалось трое: сад, Нюра и я. Но с уходом лета явилось четвертое — наваждение. По случаю прочитанной новой книги, сменившей Казанову по части дарений. Книга была смешная и нежная. Слова в ней играли, как самоцветы. И автор не рядился в рокового любовника. Но голос у него был такой, что останавливал интонациями и что-то делал со мной. Он не призывал догонять свою юность. Он ее догонял, целовал и омывал ей лицо шампанским.
В наваждение я посылала собственного двойника и там сгорала, безразличная ко всему, кроме емкого, точного слова. Со мной была нежность, вычитанная из строк, к ней приникала, хотя знала: в духе все двойники. Меж тем в каталоге моих поражений уже значилось имя таланта, чью жизнь исказила подлость, и за неимением ничего от обманутой или покинутой я маялась время от времени дурью гордыни, не собираясь ставить себя на место. Зато это сделало наваждение, начав стихию страсти с нуля. И скоро потребовало полного сумасшествия, в которое ринулась… Однако сад остановил на пороге. Он не требовал жертвы, лишь напомнил о долге. А долг и любовь… Они ведь дружат? По-моему, дружат. А если нет? Если подменяют друг друга и закрывают на это глаза?
Нюра тем временем коллекционировала запахи и гоняла мышей, деревья пестовали плоды, а я гасила себя работой. Все мы умели по запаху и направлению ветра определять погоду и чувствовали, что настоящие холода не за горами. Мы трудились не покладая рук, лап и ветвей, но работы не убавлялось. Дело портила райская яблоня — могучая, раскидистая, с несколькими стволами и кроной, в которой непонятно чего было больше: листьев или яблочек — их называют еще и китайскими, — со своими лаковыми тельцами и засахаренными черенками они неподражаемы в варенье. Однако было не до варенья, яблочные детки сыпались при каждом порыве ветра или когда на дерево садились птицы. Однажды при посещении стаи китайка сбросила добрую половину плодов. Что-то попадало в траву, часть на грядки, дорожки, цветы. Дождь измельчал эти дары в кашу; подсыхая, она покрывалась коркой. Никакие грабли или иной инвентарь здесь не годились, поэтому сама я превращалась в грабли, которые ползали и руками соскребали этот ненужный слой. (Кто знает, что такое состав и кислотность почвы, меня поймет.) Лучше всех справлялась со своими обязанностями Нюра. Она забиралась в заросли ландышей, и лишь кончик хвоста, как перископ над водой, выдавал ее продвижение. В этих джунглях Нюра караулила мышей, иногда попадались лягушки — слышалось дикое кваканье, и мне приходилось вмешиваться. С той поры, как ежи сократили свое население, мыши повадились устраивать в доме настоящий шабаш. Незваные гости появлялись ближе к осени и вначале вели себя тихо, оставляя визитные карточки в укромных местах. Но через какое-то время… К тому же хвостатые решили, что обосновались у Гофмана, Эрнста Теодора Амадея. В романтическом царстве Щелкунчика под властью Мышиного Короля. Стоило лишь погасить свет и улечься. Они мастерски умели создать впечатление, что на свете только они со своим грандиозным шорохом. Казалось, не маленькие норушки скребутся в углу, а гигантские звери. Столь же мастерски компания умела заполнить пространство играми. Мыши носились друг за другом, устраивая скачки, не разбирая, где мебель, где человек. Их не заботило, что мой лоб или плечи не приспособлены под дикую свистопляску, которая в ночи представлялась бегами на ипподроме. На шиканье они хотели плевать и гнали за кругом круг, гикая и вопя. И все по лбу и плечам. Нюра положила конец подобным бесчинствам. Она затевала свою игру и, пока кого-нибудь не ловила, не унималась. Каждую ночь Нюра притаскивала мне в кровать очередного мышиного дурачка, чтобы и я поиграла. А я с визгом выскакивала в ночь. Нюра летела за мной, но в судьбе выброшенного заморыша я уже не участвовала. Свечение листьев под звездами мгновенно устраивало так, что на душу сходили мир и покой. Чары ночи наделяли безгрешностью в самых лунных желаниях. Но что в них! Они оставались желаниями. Никто не торопился ко мне. Я была на свете одна с несбывшимся наваждением.
После восьми выскакиваний, которые не всегда отзывались в душе разором лунного блеска (были и простые мрачные ночи), недели за две все мыши были изведены. В домашней темноте стали слышаться лишь журчание электрического счетчика и мурлыканье Нюры. Но сердцу от этого не стало покойнее.
А тем временем полетели желтые листья, и соседский клен напротив нашего окна в одну ночь сбросил одежды. Сбросил на то самое место, где стоял возле калитки первый хозяин соседского дома Дмитрий Иванович Павлов. Лидия говорила, что он — сын земского врача, и надо быть ею, чтобы так понимать слово «земский». Безоговорочным признанием высшего качества звучал ее голос. Дмитрий Иванович стоял возле калитки в белой сорочке, расстегнутой наверху, и казался родней июньского вечера, который вбирал его в свое постепенное угасание. Лишь цвет сорочки не поддавался закату. Когда мы подошли, Дмитрий Иванович спросил: «Вам чем-нибудь помочь, Лидия Владимировна?» Спросил так, словно тепло сумерек перешло в его голос.
Клен, конечно, не помнил его, как не помнила дорога в щебенке и многое, что явилось позднее, зато тень Дмитрия Ивановича придерживалась этих мест, как будто понимая, что здесь обитает его душа. Ей, душе, теперь вряд ли понравилось бы, что желание помощи, которым она жила, остыло в людях, хищническая круговерть замутила глаза и обратила соседское бытование в торжество сребролюбия. Казалось, вопреки физиологии, люди стали смотреть не для того, чтобы видеть, а чтобы не видеть, как женщина рядом, одна занимаясь садом, в заботах по горло, вынуждена терпеть дичайшее себялюбие, не признающее ни правил соседства, ни нормальных человеческих отношений: то расчищать канавы, нарушенные чужими машинами, то отводить чужую воду, бьющую в сад, то что-то еще, ненужное и пустое.
Наследники Павлова обычно жили до снега. Их свет в окошке был именно тем светом, перешедшим в иносказание, которое употребляют, говоря о чем-то большем. Их свет в окошке со временем стал частью нашего сада, как остальное, что грело уже тем, что оно есть. Однако на сей раз они съехали рано, и нам суждено было встретить первый снег самим. Мы стояли на крыльце и видели, как он падает на белые флоксы, которые еще цвели редкими одинокими цветочками. На наших глазах все обращалось в белое, даже сиреневое семейство безвременника, эта копия весенних крокусов, — так осень не признавала саму себя, утверждая весну. В такую погоду хорошо сидеть у печки, слушать музыку горящих дров (от одного звука теплее), вдыхать запах березы, подсыхающих яблок, шиповника, но мы не могли этого делать, потому что успела прохудиться наружная труба нашей «буржуйки», не было тяги и дым валил внутрь комнаты. Если бы не асбестовая рогожа, припрятанная в сарай по старой привычке барахольщика, и не знаю, что было бы. Я обмотала трубу этой портянкой, вид домика стал и вовсе открыточным. А снег падал и таял, и скоро все обрелось в прежнем виде, только мокрое и грязное. Семейство безвременника, правда, сделало вид, что ничего не случилось. В конце концов, и весной падает снег, но это не значит, что нужно менять свои планы и склонять голову. Иней доставлял меньше хлопот, чем снег, хотя разил сильнее. Помнится, в одну ночь поставил на колени всю коллекцию астр в палисаднике. С переломанными хребтами, они уткнулись головками в землю и больше не поднялись. Плети дикого винограда висели, как ошпаренные кипятком, отделившись в плачевной памяти от пейзажей древних германских легенд, повествующих о Тангейзере и Лоэнгрине. Одна диморфотека сохраняла спокойствие среди побоища. Она смотрелась в зеркальце льда, верная фамильным устоям своего ромашкового семейства, и не гнулась. За оградой, на прочих голых местах трава была белая и только в саду зеленая. Но в эту пору зеленый цвет под деревьями не радует глаз, как всякое, что не ушло под черный пар и оставлено на потом. А «потом» может быть, а может — не быть. Но если все же руки дойдут до перекапывания приствольных кругов, то работа превращается в испытание: а вдруг подвернется лягушка? На зиму лягушки зарываются в землю, впадают в спячку. Однажды, перекапывая, я поранила ни в чем не повинное существо и впредь зареклась нагонять свое упущение за счет чужого несчастья.