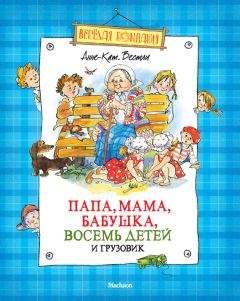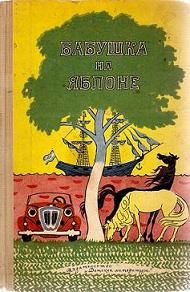Юрий Турчик - Лестница
Потом уже, лет десять спустя, после войны, Изька деликатно, но и прямо, по-мужски, с бесстрашной своей, спокойной правдивостью, скажет, вспоминая, “как мы дружили”: “Я рос без отца, ты, по сути, тоже — жалели друг друга!”. Я отвечал ему: “Тут, возможно, было еще и… пробуждение полового влечения, таким вот, косвенным образом!…”. “Нет, — возразит он мне — у нас же ничего такого не было, как померещилось Екатерине!…”. Да, ничего, только смотрели друг на друга, прикасались друг к другу, однажды поцеловались… Странно, именно в то время я, как и Толька, и другие ребята и из нашей школы, и из соседнего двора — очень интересовались одной девочкой, нашей ровесницей, “стреляли за ней”, как тогда говорили, Нонной Ивановой, жившей в нашем доме на четвертом этаже, в квартире напротив нашей!… Что же было то?… Он казался мне если и не таким прекрасным, как Мифа, то почти таким же мифическим, скажу так теперь. Свет какой-то исходил от него! Я видел, чувствовал кожей этот свет!… Возможно, сыграли свою роль тут и рассказы моей бабушки об Иисусе Христе, его чудесном рождении, о его матери, тоже — Марии, ведь как бы я ни относился в ту пору к рассказам бабушки, они жили во мне, волновали когда-то! В том числе рассказы о древних евреях: Аврааме, Исааке, Иакове, Моисее, Давиде… Видимо, Изька и был в моих глазах чистейшим, непотаенным лучиком этого, библейского, прошлого, воссиявшего затем, по словам моей бабушки, для всех людей негасимым светом Спасителя… Может быть… Изька и ходил всегда приплясывая, как царь Давид, и во время разговора нередко пританцовывал, какая-то музыка, видно, жила в нем, и он “пел” ее так — ногами…
Екатерина же Петровна положила конец нашей “любви” таким образом. Мы разговаривали. Я сидел за столом, Изька ходил по комнате. Вдруг дверь комнаты резко открылась. На пороге стояла она, Екатерина, и гневно взирала на нас. Хотела, видно, что-то сказать, столь же гневное, но как бы осеклась, молча смотрела на нас, искала слова. Наконец вымолвила: “Изя! Выйди с собаками! Уже поздно!… А маме я расскажу, так ты проводишь время — вместо того, чтобы готовить уроки!… И твоей!…”. — смотрела она на меня очень многозначительно. “Рассказывайте!” — ответил я резко и встал. Она рассказала моей маме о том, что я провожу “все дни” у Изьки и что мы “чем-то там” занимаемся. Мама, естественно, немедленно обрушила на меня свой гнев — в своем стиле: “Откуда у этого ребенка столько пороков?!…” Женя же, ласково гладя меня по голове, выспрашивала: “Ну, что вы там делали, скажи мне, я никому не скажу!…”. Бабушке, думаю, об этом не сообщили — она чувствовала себя все более неважно, иногда лежала целые дни… Хуже было, что жена Охотника рассказала обо всем (о чем “обо всем”?) глухой Марусе; орала, видно, и перепугала ее. Через день, встретив меня на лестнице, мать Изьки попросила меня, чтобы я больше не приходил к ним. С извиняющимся выражением на скорбном своем лице, со слезами в огромных, карих, как Изьки, глазах, перейдя на шепот, она объяснила мне, что ее соседи, люди богатые, боятся, наверное, что у них что-нибудь пропадет… Возможно, в этом тоже было дело… И я больше не приходил к Изьке. И он покорился воле матери, не хотел ее огорчать… Но дружба наша, конечно, не кончилась… Но мне, должен признаться, долго снились сны об Изьке, и сны эти, увы, были в духе подозрений жены Охотника и моих близких — мама долго не могла успокоиться, клеймила меня “развратником”, и Женя в таких случаях, улыбаясь многозначительно, как бы в шутку выговаривала: “Фу, какой нехороший!… Совсем совести нет, да?… Он же мальчик, не девочка!… Фу, фу!”. Что я мог бы им объяснить? Ничего. Они бы и не поняли. И бабушке я не смог бы ничего объяснить, но, думаю, она и не стала бы меня корить, обвинять, и, если бы не поняла, то почувствовала бы правду…
Охотник сделал свой “ход” в партии с Богиными — пешечный же ход! — когда пришла война. Представляю себе, хоть и не слышал своими ушами, как жена Охотника и он сам уговаривали Марусю не уезжать, не эвакуироваться! Наверное, пригласили в комнату, в свою гостиную, чтобы не слышали на лестнице, как они кричат: “Немцы — благородные люди!… Они не всех евреев убирают, только — коммунистов!… А вы беспартийная!…”. Об этих доводах Охотника рассказывал Изька, да и сама Маруся — соседям, советовалась, раздумывала: уезжать или не уезжать, благо, была возможность — с фабрикой, где она работала. И ей советовали: конечно, уезжайте! Даже — Пелагея. Но победил Охотник, последний его довод убедил ее окончательно: здесь у нее есть жилье, а там неизвестно, будет ли… Это был тонкий, предусмотрительный “ход” — Охотник знал, что комнату, освободи ее Маруся, немедленно опечатают, как произошло с квартирой Богиных, когда они выехали, эвакуировались — первыми в нашем доме… В гетто, куда согнали всех евреев города, под вечер Изьку подозвал к себе немец-охранник. Кое-как, словами и жестами, он объяснил Изьке, что ему надо бежать — сегодня вечером. Чтобы он, Изька, пришел сюда, на его пост, когда совсем стемнеет. Изька же объяснил немцу, что с ним мать. “Найн!” — ответил немец. Когда стемнело, Изька встал с нар. Маруся спала. И он вышел из барака. В этот момент Маруся проснулась. “Изя, куда ты?” — воскликнула она. Он не ответил, быстро пошел к заграждению. Немец показал ему, где можно пролезть. Сказал еще, что у него такой же сын. Когда Изька был уже по ту сторону проволоки, он услышал: “Изя!…”. Мать приближалась. “Изя!…” — кричала она. “Хальт!”, — вдруг услышал он. И сразу же раздалась автоматная очередь… Возможно, застрелил мать этот же немец…
Я уже говорил, кто спрятал Изьку, когда он прибежал домой. Но сначала он пришел к себе, в квартиру Охотника. Его впустили. Затем объяснили, что комната его уже занята — племянницей Екатерины Петровны, которая в самом деле приехала к тетке перед войной, и что ему, Изьке, лучше вообще уйти из дома, и поскорей — его наверняка придут искать. И он ушел. Прожив двое суток у Пелагеи, перешел затем линию фронта и… попал в тюрьму, где провел под следствием всю войну, четыре года— наши не могли поверить, что еврея отпустил немец, спас. Держали, как мы говорим теперь, за шпиона… “Но их тоже можно понять, следователей, — говорил мой брат Изьке, когда мы встретились после войны в родном городе, — им нужны были свидетели, доказательства, а их у тебя не было! Все нормально!…”. Такая бесчувственность брата объяснялась, помимо его натуры “историка”, думаю, и тем, что он сам достаточно пострадал в войну: попав на фронт раньше, чем я, увидевший войну в самом ее конце, он был тяжело ранен, намучился в госпиталях, но вернулся домой, в Сибирь, куда эвакуировалась наша семья, героем — газета нашего, сибирского, городка написала о нем, сравнила его с толстовским капитаном Тушиным, и это определило на последующие годы, так сказать, имидж брата: он чувствовал себя “победителем” и представительствовал от лица Победы. С тех пор, с конца сороковых, Изька исчез с моего горизонта, даже не отвечал на мои письма, хотя обещал. Он жил в Донбассе, работал на шахте. Но кем он мог, маленький, там работать? Фонариком?… Но он уже не светился… Правда, возмужал, расширился в плечах, пил водку… А может быть, это я ослеп к тому времени?… С Изькой тогда приезжал его товарищ, шахтер, здоровенный парень, и я видел, какими глазами он смотрел на Изьку, как слушал его… А я был тогда поглощен своей первой женой, семейной жизнью… Жив ли он, мой Изька?… Охотник же с женой и племянницей удрал в Германию вместе с отступавшими немцами, сумел, говорят, увезти и мебель, и собак, и теперь живет там. Впрочем, может быть, и не живет уже — столько лет прошло!…
В квартире — напротив нашей, на четвертом этаже, — я никогда не бывал в детстве. После войны — случилось однажды. Бабушка моя тоже, думаю, никогда туда не заходила, я не помню такого. Поэтому я мог бы и не писать о ней, об этой квартире. Да и, признаюсь, не хотел бы. Но из песни слова не выкинешь, квартира эта была, люди там жили, и я знал их. И не только я. Другие соседи тоже никогда там не бывали, кроме Ульяновны, нашей дворничихи, и “Хаима”, Ивана Абрамовича, — они выносили оттуда ковры, точнее — помогали их выносить, принимая из рук хозяйки квартиры, молчаливой, мрачной немолодой женщины с гладкими черными, казалось, только что промытыми, блестящими волосами на голове, — “экономки”, как впоследствии обозначила Нонна Ивановна роль этой женщины в их семье, и выбивали их во дворе. И заносили обратно. “Экономка” открывала дверь по их звонку, принимала ковры и вручала плату — Ивану Абрамовичу. Она ни с кем не останавливалась на лестнице, во дворе, не здоровалась, и никто не знал, как ее зовут. Лишь однажды я услышал ее голос, ясный металлический говорок. Она вручала деньги Ивану Абрамовичу (я в это время поднимался по лестнице) и в ответ на его “Спасибоже!…” (он пересчитывал деньги) сказала: “Даем, что можем. Мы же не евреи!”. “Ну да, конечно, — откликнулся наш Хаим, — Евреям хорошо, у них бог есть! А у нас и копейка — спас!”. Все они, Ивановы, так: не останавливались, быстро проходили мимо всех, но сам Иванов, его сын и дочь здоровались, но тоже так, на ходу. Правда, сын, старший брат Нонны, Алексей, ровесник Сеньки и Мифы, случалось, останавливался, разговаривал с Сенькой, но — коротко, сразу же уходил, как будто спешил куда-то. Словом, они не хотели ни с кем в доме общаться и не общались, вещь по сегодняшним временам обычная. В этом смысле они и были, Ивановы, людьми будущего, нашего сегодня; но подобное характерно — и сегодня — для больших домов, где можно прожить всю жизнь, так и не узнав, даже не встретив соседа — тогда же, до войны, в нашем доме, это выглядело, так сказать, позицией и так и воспринималось — именно как неучастие в жизни дома. Главной, родовой, или — семейной, их чертой для меня были их чистота, промытость, вымытость — до блеска!… Таким был сам Иванов, блондин, высокий, с красивой лысиной, в очках, с галстуком. Здоровался он так — спускаясь или поднимаясь по лестнице: “Добрыдень! Погулять? Надонадо!…”. Или “Добрывечер! Собачекпогулять? Надонадо!…”. Или: “Утродобр! Ужепогуляли? Прекраснопрекрасно!…”. Он был главный врач тюремной больницы, мы это знали, и его чистота и видимая деловитость были для нас объяснимы. Сын его, Алексей, тоже собрался стать врачом, поступил в мединститут, еще он играл на скрипке, ходил со скрипкой в музучилище, когда учился в школе, и был красив, как его отец: волнистые белокурые волосы, черные брови, прямой, точеный нос… Дочь, Нонна, также училась музыке (“по музыке”, как говорили в доме), играла на пианино, но была некрасива: большая голова, напоминавшая мяч, лицо, как полная луна, маленькие зеленые глазки. Вероятно, походила на мать, умершую сразу после рождения дочери.