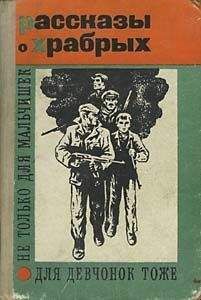Анатолий Елисеев - Страна Эмиграция
Ну положим это была государственная служба, частные фирмы на такую мелочь внимания просто не обращали. Профессор, доктор наук Борис Гутник жил в Бершеве и поддерживал семью тем, что по ночам мыл туалеты на бензозаправке в 20 километрах от города. Он добирался на работу на велосипеде и однажды по дороге его сбил грузовик. Шофёр даже не остановился — олимов узнавали сразу. К счастью Борис отделался только ушибами.
С удовольствием (для хозяев) нас приглашали на уборку фруктов — платили почти ничего, в памяти всплывает цифра 2 шекеля не то в час, не то за огромный ящик. Обещали также, что можно будет принести домой дары природы, но после изнурительного дня под палящим солнцем на фрукты не хотелось смотреть.
Копейки платили везде. Местечковые «мадам» предпочитали нанимать домработницами русских женщин, желательно с высшим образованием. Безответные и безработные они были готовы работать за гроши. Упивающиеся своей властью полуграмотные «ватички» указывали унизанным кольцами перстом на пятнышки грязи на полу и фыркали — «Oh, thoseRussians!».
В упомянутой (не к ночи) пекарне «Ахдут», где мне по большому блату удалось поработать, платили согласно закону — 6 шекелей в час, но даже из этой мизерной суммы ухитрялись выдрать весомый израильский налог. Работа в пекарне была изматывающей — 12 часов одни и те же движения, однообразные операции, невозможность остановиться, передохнуть. Но в памяти стоит не это, а ворота фабрики около которых толпятся олимы в надежде получить работу. Из ворот выходит толстый, похожий на водевильного грека еврей-марроканец и с брезгливым выражением показывает пальцем — «Ты… ты… и ты…». Счастливчики проходят в ворота, а остальные расходятся по домам, чтобы назавтра придти снова. Проработал я там только две ночи, на третью — жена взглянув на меня, прочтя что-то несказанное на моем лице, сказала — «Все, ты туда больше не пойдешь. С голода не умрем!». Солгать — это сказать, что я был расстроен.
Я не боюсь повторить то, что описано уже другими писателями-эмигрантами — безработная и безденежная заграница была и у Газданова и у Лимонова. Но в нашей безнадежности была своя специфика — специфика обмана.
Мы ехали на родину евреев, в страну воссоединения. Евреи, кто бы они не были и где бы они не жили, ехали в свою собственную страну. Они не просили разрешения у богатых родственников пустить их туда — они рассчитывали приехать полноправными гражданами, а приехали «олимами», да еще «олимами» разных мастей.
Я — Что меня удивило в Израиле — кастовость общества, расизм. Можно, в конце концов понять ненависть к арабам, палестинцам, можно по разному относиться к эфиопским евреем — в первую очередь они черные, а уж потом может быть евреи. Но деление самих евреев на ашкенази и сефардим, азербайджанских и ферганских, горских и равнинных, марроканских и йеменских — ведь все они принадлежат, и это официально-религиозная доктрина, к одному народу.
Можно понять отношение к «гоям» — натерпелись от них — теперь получайте, но, когда одни евреи более евреи, чем другие, евреи первого и других сортов… По-моему это нонсенс.
Ира — А что же ты мог ожидать? Вспомни, какие разные мы были, даже в нашем ульпане. Приезжали люди из городов и маленьких городков, из Москвы и Азербайджана, из Средней Азии и Молдавии — разные культуры, разные характеры. Приезжали религиозные и забывшие все традиции, оторванные от корней… Уж что говорить о марроканских или других олимах — они были скорее арабами, чем иудеями. Я считаю, что Израильское общество сумеет переплавить всю эту пеструю толпу, воспитать гражданский патриотизм и через одно — два поколения они станут просто израильтянами, как это случилось с нашими детьми, которые уже стали в значительной степени южно-африканцами. Другое дело, что я не хотела становиться израильтянкой.
Я — Ты наверное права, но вернемся к местячковости. Я писал в «Городке», что в моем детстве не было антисемитизма, нет, конечно и тогда он существовал, на государственном уровне, в мире взрослых, но у нас — детей — никто не считал евреев существами с другой планеты, они были такими же, как все, хотя иногда и носили странные имена. Они не были обособленной кастой, и так наверное было во всех крупных городах. В местечках герметизм, самоизоляция были во многом вынужденными, но наверное они и рождали ненависть к евреем — «Не такие, как все — значит враги!». Евреи платили тем же.
Ты знаешь специфику греческой общины у нас, в Южной Африке — не грек, значит не свой, значит изгой — и что, любят здесь греков?
Ира — Не совсем так или совсем не так! В моем детстве антисемитизм конечно был и я его ощущала постоянно. Я всегда помнила, что я не такая, как все и конечно ожидала самого плохого от окружающего мира. Если это называть герметизмом, он конечно был свойственен евреям и наверное в местечках в большей степени, чем в крупных городах.
Я — Но герметизм был свойственен и русским в провинциальных городках, вспомни пьесы Островского, русских критических реалистов…
Ира — А в чем разница? Местечковость — это другое название для провинциализма. Более ярко выраженное явление и всё. Израиль в конце концов — провинциальное государство.
Глава 6
Побеседуем о провинциализме
«Я приехал из деревни
В этот крупный городок…»
Вилли ТокаревКонечно, мы приехали не из деревни, да и Йоханнесбург очень крупным городом не назовешь — уж во-всяком случае он гораздо меньше Москвы. Откуда же это стойкое ощущение столицы, головокружительного нырка в огромность мира. Почему та Москва, которую мы покинули в начале 90-х годов прошлого века, вырисовывается в памяти, как серия сельских картинок? Почему даже сейчас, приезжая в Москву трудно избавиться от ощущения провинциальности этого города, несмотря на высотные дома, кипучую жизнь и обилие «Мерцов» и «Ниссанов» на улицах.
Мне кажется, что провинция это чисто сравнительное понятие.
По сравнению с Москвой, мой родной город — Орехово-Зуево был конечно провинцией. Наверное Орехово казалось столицей для жителей Дрезны или Куровского — не знаю, там я не жил. Точно также как Москва, после 12 лет в Йоганнесбурге кажется провинцией, как Джобург — так ласково называют крупнейший город ЮАР — для жителя Нью-Йорка или Лондона, наверное, не больше, чем тихий провинциальный город на краю земли. Я не слишком много путешествовал — мне трудно сравнивать, поэтому ограничусь Москвой и Ленинградом (я его знаю и помню лучше, чем новый Сант-Петербург).
Что же все-таки определяет провинцию?
— Размер? Да, в какой-то степени, но не только. Йоганнесбург гораздо крупнее Кейптауна и в той же степени провинциальнее.
— Статус столицы? Не всегда, и в этом убеждаешься сравнивая Нью-Йорк и Вашингтон, Стамбул и Анкару, Мельбурн, Сидней и Канберру. Кстати говоря — можно сравнить Йоганнесбург и одну из столиц Южной Африки — Блумфонтейн (вы слышали о таком городе? А мы там были — Южно-Африканский Муром или Калуга).
— Местоположение? Да, конечно — Кейптаун, Нью-Йорк, Лондон — портовые города…
Вот здесь, по-моему и лежит главный признак, главная причина столичности или провинциализма. Порт, океан, море — если это конечно не Каспийское озеро — прежде всего связь с миром, ворота открытые настежь.
Провинциализм — синоним замкнутости, герметизма и именно замкнутость порождает провинциализм.
Провинция, как стоячий водоем, может поначалу даже радовать зеркальной гладью воды, но скоро поверхность покрывается ряской и листьями кувшинок (а что твориться в глубинах и подумать страшно) и пруд превращается в болото.
Самой замкнутой страной в мире был Советский Союз (может быть только Северная Корея и Китай добились на этом пути больших успехов). Революция случилась именно тогда, когда Россия, преодолевая исконно-посконный герметизм, выходила на всемирную сцену. Именно тогда появились имена, которые знают даже здесь, в Южной Африке: Достоевский и Лео Толстой, Дягилефф и Врубел, Анна ПавлСва (видимо в честь её и неизвестно почему (может быть за легкость) назван прелестный воздушный торт), Менделеев и Иван Павлов… Уже перед самой октябрьской Ларионов и Гончарова, Малевич, Шагал, Скрябин и прочие начали перелопачивать Русь, открывать двери в Европу. Но тут, как писал Розанов, к грохотом опустился занавес и все кончилось. Началось производство для внутреннего потребления и с тех пор даже самых смелых новаторов знали только в России.
«Новаторы до Вержболова,
Что ново здесь, то там не ново…»
Герметизму России способствовал язык — мы говорили на местячковом тарабарском языке и кому за пределами страны есть дело, что это могучий и великий язык областного масштаба. Нас не читали, не понимали, если русские книги переводили, то переводили безобразно, но ведь и мы не читали, а если и читали, то пусть хорошие, но дубляжи и переводы.