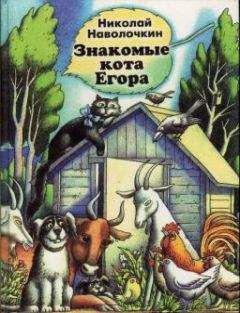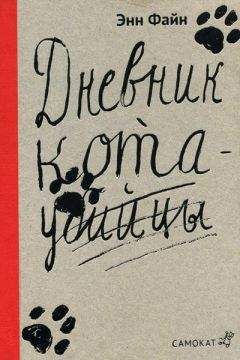Войцех Кучок - Дряньё
— Будешь еще? — (удар) — Будешь еще? — (удар) — Будешь? — (удар) — Будешь? — (удар) — Будешь еще? — (удар).
И хоть я не был до конца уверен, что именно хочет он услышать, то ли то, что я еще буду, как говорят родители своим детям, «непослушным» (что в его понимании означало быть не вполне абсолютно и не слишком безоговорочно подчиняющимся), то ли он хотел знать, буду ли я вообще; и тогда, когда эта боль ко мне пристраивалась, гнездилась во мне и размножалась, я неизменно был уверен, что не буду, что никогда больше не буду есть, пить, дышать, существовать, только бы он перестал бить. И я кричал «Не-е-ет!» или же иногда, когда у меня оставались силы произнести два слова подряд, одно за другим, «Ни буда!», так, на всякий случай не желая его, говорящего с силезским акцентом, обидеть правильным произношением. Случалось, хоть и значительно реже, он спрашивал о чем-то другом, обычно тогда, когда при наказании кто-нибудь присутствовал. Нет, речь не о присутствии грустных и сочувствующих глаз собаки, которая как единственное из живых существ, не считая меня, знала тяжесть этого хлыста, которая, более того, знала его запах; о присутствии не собаки, а человека, третьего лица, то есть, например, матери или же сестры-старой-девы, брата-старого-холостяка, или же, что также случалось, хотя и крайне редко, присутствии кого-то чужого, кого-нибудь из знакомых старого К., особенно тогда, когда тот приходил к нам со своим ребенком; особенно тогда, когда, заигравшись с тем же ребенком, я вдруг начинал слишком шуметь, или же, не приведи Господь, бегая с тем же ребенком по комнате, задевал столик и разливал кофе, или же если наши игры каким-нибудь образом мешали разговору старого К. со знакомым. Тогда, даже если виноват был ребенок знакомого, которого старый К. не мог наказать, он демонстрировал, как следует воспитывать ребенка человечьей породы, хватал меня за ухо, говоря знакомому: «Прости, я на минуту», и выпроваживал меня в дальнюю комнату. А там он брал хлыст и бил, задавая специально приготовленный на случай присутствия третьих лиц вопрос, в каком-то смысле более точный и в то же время заранее освобождающий меня от многосложных ответов.
Он спрашивал.
— Знаешь за что? — (удар) — Знаешь за что? — (удар) — Знаешь? — (удар) — Знаешь? — (удар) — Знаешь за что? — (удар).
В этом случае мне было достаточно со всей категорической уверенностью в собственном незнании отбрехиваться: «Нет!!»
Потом он возвращался к знакомому и говорил, слегка запыхавшись:
— Что за истерик гребанный. Весь в мать. Пару шлепков получил, а так вопит, будто его режут.
И возвращался к разговору, в котором никто ему больше не мешал. До самого конца.
Я хотел, чтобы разразилась война. Все ждал, чтобы разразилась хоть какая-нибудь война, пусть всего лишь на несколько дней, я бы тогда вступил в армию, противостоящую той, в которой воевал бы старый К., и даже если бы он не воевал вовсе, если бы где-нибудь прятался и пытался переждать, я был бы во вражеской армии и выполнял бы ее приказы, а приказ был бы стрелять по противнику, и тогда во всем великолепии закона я мог бы зайти к старому К. в дом и застрелить его, потом война может кончаться. Я ждал ее; последняя из известных мне, к сожалению, окончательно завершилась более четверти века до моего рождения; я был ребенком мирного времени, в школе мы пели песни о мире, мы участвовали в торжественных сборах, прославляющих мир, «Нет войне!» — писали мы на транспарантах, даже старый К. в моменты воспитательской рефлексии говаривал:
— Не нюхали вы войны, засранцы. Щенки балованные. Мало вас пороли, мало. Жрать не хотите, дохляки, потому что голода не знали. Я бы всех вас воспитал…
Так говорил старый К. тем, кого не дано было ему воспитывать, — например, соседским детям, околачивающим мячом подворотню или достающим его колкостями из-за кустов, когда он выгуливал собаку, или же тем, кто, по школьному обычаю, приходили ко мне на день рожденья и не проявлял интереса к приготовленным матерью бутербродам. Вот и ждал я войну, что, может, какая случится, чтобы я мог понюхать ее, а при случае и застрелить старого К. История между тем оказывалась к нам благосклонной (как говаривал старый К.), она нас избаловала, мы должны были благодарить Бога, что не пережили войны (как говаривал старый К.), да что там говорить, мы бы ее и так не пережили, потому что таким дохлякам ни за что не выжить, в войну могли выжить только крепкие люди, твердые, только сильные духом люди, говаривал старый К., а я не мог надивиться, откуда он знает, ведь родился он во время войны, и пока он научился ходить, война успела закончиться, наверняка ведь кто-то крепкий, твердый и сильный духом помог ему выжить, наверняка это был его отец, но я не спрашивал его об этом, не хотел раздражать. Я лишь хотел, чтобы на минутку разразилась какая-нибудь маленькая войнушка, пусть только в нашем городе, какое-нибудь восстание одних против других. И старый К. был бы одним из одних, а я был бы одним из других. И у меня была бы винтовка, стреляющая настоящими патронами. И первым и последним врагом, которого я успел бы застрелить, был бы старый К. Потом восстание утихло бы, одни договорились бы с другими, а газеты бы сообщили, что погиб только один человек, практически никто, ведь на войне люди гибли миллионами.
К сожалению, история нас баловала, позволила нам расти в тепличных условиях мирного времени (как говаривал старый К.), взрослеть в тепле домашнего очага, поэтому нам не дано было вырасти приличными людьми, потому что нам было слишком хорошо. Старый К. говорил во втором лице множественного числа именно тогда, когда лично я ничего такого не сделал, за что полагалось бы наказание, именно тогда, когда ему на память не приходило никакое из так называемых отсроченных наказаний, когда он ничего такого не мог призвать на подмогу. Тогда он брался не за хлыст, а за пословицы и говорил:
— Ничего из вас не выйдет, дохляки вы гребанные, учиться вы не хотите, вам бы только дурака валять. Что за молодежь, Боже правый, Ты видишь и не разразишь их… Глупые щенки… дали бы мне на воспитание одного-другого, иначе бы запели… Помни, сын, кто не слушается отца-матери, тот слушается хлыста из собачьей шкуры. Запомни, чему Ясь не научится, того Ян не сумеет. Мне в твоем возрасте не было так вольготно, я должен был зарабатывать себе на жизнь. Помни, ээх… Надо бы вас на коротком поводке держать, может, что-нибудь тогда и выросло бы, а так, ээх, говорить тошно… С кем поведешься… Яблоко от яблони… Банда засранцев. Расплодились повсюду. Дети родят детей. Дебилы. Ээх, я бы воспитал…
Так он обращался к «нам», единственным слушающим представителем которых был я: я был слухом своего поколения, всего лишь слухом, потому что права голоса мне никто не давал. Впрочем, я и не хотел голоса, я хотел только войны, винтовку, я хотел сделать старому К. третий глаз при всем великолепии закона, что в мирных условиях было бы невозможно, в мирных условиях детям не дают винтовки; другое дело война, лучше всего восстание. Я видел памятник маленького повстанца, он наверняка бегал с винтовкой и стрелял во врага, может даже застрелил больше одного, и поэтому ему поставили памятник; я же не хотел памятника, не хотел стрелять ни в кого, кроме старого К., потому что без винтовки я был беззащитным, потому что без войны я был беззащитным, если бы я застрелил его в тепличных условиях мирного времени, то стал бы отцеубийцей, а старый К. говаривал:
— Помни, кто поднимает руку на отца-мать, у того рука отсохнет.
Я не хотел, чтобы у меня отсыхала рука, каждое утро проверял, не отсохла ли, потому что во сне, в каждом сне я поднимал на него руку, в каждом сне я был отцеубийцей, потому что даже во сне война не хотела начинаться, потому что, если бы она началась, я поднял бы руку не на отца, а на врага, смог бы сделать ему третий глаз и стал бы не отцеубийцей, а солдатом, выполняющим свой солдатский долг. Я до отвала настрадался от этих песен о мире, от этого неначала войны и абсолютного отсутствия признаков, что она начнется, когда в одно прекрасное утро старый К. со слезами на глазах стал метаться по дому и говорить матери:
— Слышала, что эти сукины дети сделали?
метаться и говорить своей сестре-старой-деве:
— Ну и натворили же, сукины дети…
метаться и говорить своему брату-старому-холостяку:
— Это ж сукины дети, я же говорил, с такими и говорить-то не о чем…
А когда все вдруг стали метаться по дому со слезами на глазах, я спросил, что случилось, и услышал:
— Бедный ребенок, война…
а потом:
— Ты что его пугаешь, глупая баба? Не война, а всего лишь военное положение!
а потом:
— То же самое, что и война, только хуже, потому что свои против своих.
а потом:
— Какие они там свои, русские они.
а потом еще:
— Проклятая коммуна, нас переживет и детей наших, и детей наших детей!