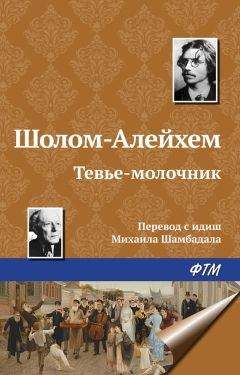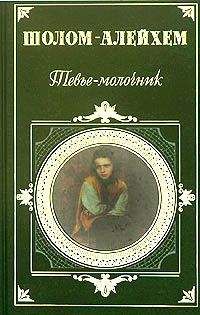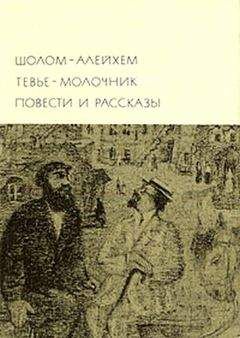Робер Бобер - Что слышно насчет войны?
— А кто это делает? — спросила мадам Андре.
— Теперь обрезание можно делать в больнице, но большинство все еще по старинке приглашает мохела, такого человека, вроде особого раввина, специалиста по обрезаниям.
— А как же было во время войны?
— За всех не скажу — не знаю. Но с моим сыном все получилось хорошо. Мохел пришел к соседке, которая спрятала нас у себя — Самми ведь родился десятого июля сорок второго года, за шесть дней до облавы и до событий на Вель д'Ив.[13] А обрезание устроили только десять дней спустя, раньше расхаживать еврею по Парижу было бы слишком опасно, тем более такому, как мохел — с бородой, по которой его опознать куда проще, чем по желтой звезде на груди.
— Но это же чистое безумие! — всплеснула руками Жаклина. — Зачем делать обрезание, раз так легче всего проверить, еврейский мальчик или нет? Это же просто, не знаю… какое-то самоубийство! Нет, не могу понять!
Я и хотел бы растолковать ей, но это очень сложно. Пришлось бы объяснять, что для меня это означало не сдаться, бросить вызов, точно так же, как позднее вступить в Сопротивление вместе со всем Союзом еврейской молодежи. Объяснять, что мохел как раз потому непременно желал исполнить обряд приобщения к еврейству, что это было смертельно опасно. И что именно из-за этой опасности я и хотел, чтобы Самми прожил свою жизнь, какой бы короткой она ни оказалась, евреем.
Уж очень сложно объяснять все это. Я и не стал, а сказал только:
— Я никогда не стыдился того, что я еврей!
Мсье Альбер поднял на меня глаза, чтобы увидеть, не смотрю ли я на мадам Полетту.
— Ну да, я на нее смотрел.
Все помолчали, а потом мадам Андре спросила, справится ли Фанни — ведь у нее теперь прибавится хлопот.
— Мы решили отдать Самми в детский сад.
— А он уже знает? — спросил Шарль. Вот уж кто никогда не участвовал в наших разговорах!
— Конечно, знает, — ответил я. — Мы ему сказали, что он уже большой и ему пора ходить в садик. Он у нас умница и все понял.
— Большой! — усмехнулся Шарль. — Как можно говорить ребенку, что он уже большой? Да никогда! Раз он ребенок, то какой же он большой! Ребенок он всегда ребенок. Не важно, умный он или нет, тем более что он еще не знает, что такое ум. А знает только то, что не хочет взрослеть и что его отец и мать все время занимались им и только им одним.
— Но, Шарль, ведь надо же у ребенка развивать какое-то чувство ответственности. Я, например, в четыре года…
— У тебя в четыре года были старшие сестры и старший брат (первый раз за все время Шарль сказал мне «ты»). Ребенок ни за что не отвечает и не хочет отвечать! Это его родители отвечают за все. Твой сын не писает в постель, Леон? Нет? Это хорошо. Но приготовься, что теперь тебе придется менять ему простынки по утрам. Что значит, ты уже большой? Ты пойдешь в садик, ингеле,[14] будешь, как большой, учиться читать. И сам есть мясо, как большой. И сам завязывать шнурки, и сам вытирать себе попу, а пока ты, как большой, будешь набираться ума в своем садике, твоя сестренка будет дома, а мама будет кормить ее своим молоком и очень уставать. Поэтому ты должен понимать: заниматься тобой мама больше не сможет… не сможет, и всё…
Шарль внезапно замолчал. Глубокие складки у него на лице, кажется, стали еще глубже. Как будто пролегли два глубоких канала для слез. Но он не заплакал, а только снова принялся строчить на машинке.
Нет ничего лучше работы, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей.
С этим согласны все без исключения. Что было написано над воротами концлагерей? «Arbeit macht frei».[15] И французы говорят, что работа — это здоровье, а в идише есть поговорка, которую можно перевести примерно так: «Самая трудная работа, это когда нет работы».
Во всяком случае, если б я ломал себе голову, о чем бы вечером поговорить с моей Фанни, то Шарль мне подсказал отличную идею. Но обсуждать такие вещи с Шарлем — нет уж, увольте.
Однажды Бетти разгуливала по ателье и жевала бутерброд — она часто так делала, когда приходила из школы. Было это вскоре после летних каникул, и вот Жаклина попросила ее спеть какую-нибудь песенку, которую она выучила в летнем лагере. Понятно, что в лагере, организованном ЦДК,[16] детишек не учили петь песни Тино Росси, вот Бетти и спела песенку на идише:
Эс хот ди клейне Ципеле
Фарбши зих а липеле.
— Ципеле, вос вейнсту.
Ан апеле, дос мейнсту?
— Нейн, нейн, нейн,
Вер зогт дос, аз их вейн?[17]
Бетти пела, опершись на отцовскую швейную машину, рядом с Шарлем. И он, и Морис перестали строчить, чтобы ей не мешать. Да и все в ателье, кроме, конечно, мадам Полетты, отложили работу. Правда, мсье Альбер пытался что-то начертить на верхнем куске материи — перед ним лежала целая стопка, но скорее ради того, чтобы хоть чем-нибудь занять руки, и каждый, кто видел, как они у него дрожат, понимал: эта пичужка ему дороже всех на свете.
Когда Бетти допела песенку, Шарль, как он часто делает, протер очки протянул к ней руку и погладил… то есть даже не погладил, а просто прикоснулся к ее перекинутой через плечо светлой косичке. Мадам Андре, увидев это, стала белой, как снег, что падает зимою в Польше. И тогда я захлопал в ладоши — это лучшее, что можно было сделать. Другие тоже захлопали — ведь это лучшее, что можно было сделать. Жаклина спросила, что значат слова этой песенки, но Бетти не знала, пришлось перевести мне. Жаклина сказала: «Какая прелесть!» — и поцеловала Бетти.
Еще бы не прелесть! По-моему, песни на идише самые красивые на свете, не считая песен Рене Леба. Они красивые и очень часто грустные, можно даже сказать: потому и красивые, что такие грустные.
У нас в Еврейском театре чуть только на сцене запоют, как весь зал уже плачет. И не только из-за слов, как можно было бы подумать; то есть, конечно, грустных песен на идише сколько угодно, но дело не в этом: актеры еще не успевают пропеть ни строчки, а платочки уже выпархивают из сумочек. В общем, долго объяснять.
В каком-то смысле ателье — это тоже театр, с той лишь разницей, что мы тут все на сцене, и каждый все время играет одну и ту же роль в одной и той же пьесе, без всяких репетиций.
В Еврейском театре, из всех пьес, в которых я занят, только в «Крупном выигрыше» Шолом-Алейхема, действие происходит в мастерской, да и то я там не гладильщик, как в ателье, а один из двух учеников, по имени Мотл. Я этого Мотла играл еще до войны, а сейчас на эту роль не нашлось никого помоложе, кто хорошо знал бы идиш, вот и дали ее опять мне. Но это не так страшно — Шолом-Алейхем всегда хорош, кто бы на сцене его ни играл.
После Жаклины все ателье перецеловало Бетти, она всех обошла, гордо подставляя щеку.
— Ну ладно, а теперь иди делать уроки, — сказал мсье Альбер и поскорее выставил ее на кухню, потому что в ателье повисло долгое молчание. Не такое, как иногда бывает после жаркого спора или ссоры, и не такое, как в разгар сезона, когда все слишком заняты работой. Нет, это только теперь случается, что в швейном ателье иногда повисает вот такое молчание.
Сейчас бы взять да явиться старьевщику Изе, брату мацам Леи. Он каждый раз еще из-за дверей кричит «Послушай-ка, послушай!» и, не успев поздороваться, угощает нас последней хохмой Роже Никола.[18] Но на это нечего было и рассчитывать — по утрам Изя, как говорит мсье Альбер, промышляет по дворам.
Я ждал, может, Жаклина что-нибудь такое скажет, уже не раз бывало, что она вовремя меняла тему и выводила беседу из тупика. Но она только принялась негромко напевать. Наверно, в этот раз, подумал я, не нашла удачного поворота, потому что корила себя: зачем ей вздумалось попросить, чтоб Бетти спела. Я узнал мотив — «Парижский романс» Шарля Трене — и стал подсвистывать. Сначала потихоньку, а потом погромче, чтоб было слышно. Жаклина тоже запела погромче — в конце концов, не считая работы, пение — самое подходящее занятие, когда так трудно говорить.
Вернемся, однако, к тому, с чего начали, к разговору об обрезании. Жаклина, как мне казалось, хотела спросить еще о чем-то — я догадался потому, что рука ее то и дело замирала между двумя стежками. Но вопрос задала не она, а мадам Андре:
— А почему, мсье Леон, вы вдруг решили завести ребенка в разгар войны?
— Решили? Да разве мы что-то решали? Лучшее средство не иметь ребенка, сами знаете, мадам Андре, это спать в разных комнатах. Одно время мы с Фанни, уже после рождения малыша, спали даже в разных городах — тогда уж точно никакого риска… А так… все зависит от здравого смысла.
— От здравого смысла? — удивилась Жаклина. — Не понимаю, при чем тут здравый смысл?
— Так я вам скажу. Когда Фанни поняла, что забеременела, ее отец пришел в ярость. Не потому, что мы не были женаты, а именно потому, что евреев уже отправляли в лагеря — в Питивье и Бон-ла-Роланд. Да, и еще в Дранси. Но мы с Фанни, помню, когда пришли сообщить эту новость ее родителям, были страшно горды и держались за руки, как на плакатах, которые сейчас развешаны на стенах. Сначала ее отец бесился молча — понятно, не в его привычках обсуждать такие вещи вслух. Довольно долго он бегал взад-вперед по комнате и вдруг остановился прямо передо мной и сказал: «Вот я, Леон, всю жизнь, когда мне надо на площадь Республики, схожу на Оберкампф, на остановку раньше!» Сходить на Оберкампф — это и есть здравый смысл, Жаклина.