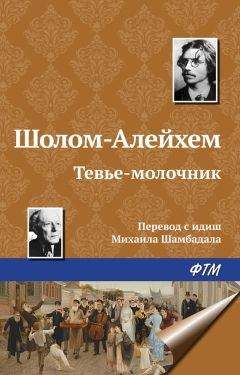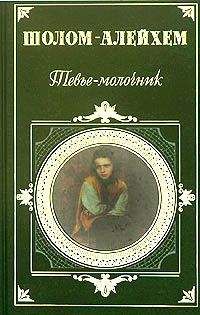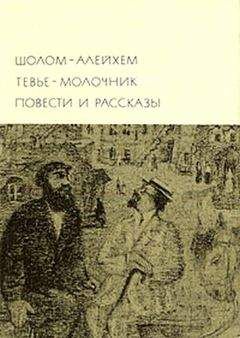Робер Бобер - Что слышно насчет войны?

Обзор книги Робер Бобер - Что слышно насчет войны?
Робер Бобер
Что слышно насчет войны?
Памяти моих родителей
Часть первая
Знаете что, пане Шолом-Алейхем? Давайте поговорим о более веселых вещах. Что слышно насчет холеры в Одессе?
Шолом-Алейхем. Тевье-молочник[1]Война закончилась, главное, не начинайте ее снова.
«Фран-тирер»[2] от 8 мая 1945 г.Абрамович
Меня зовут Абрамович. Морис Абрамович. Здесь, в ателье, меня прозвали Абрамаушвиц. Сначала ради смеха, а потом как-то вошло в привычку. Придумал и пустил в ход эту шуточку Леон, наш гладильщик. Не сразу, конечно, — сразу у него не хватило бы духу. Все-таки бывший узник — это прежде всего бывший узник, даже если он хороший портной-моторист.
В этом деле я кого угодно за пояс заткну. Особенно по части скорости. Я пришел наниматься в начале сезона, по газетному объявлению, и нас было двое на одно место. То есть приходили и другие, с газетой под мышкой, но мы уже сидели за машинками. Второй кандидат был молодой, крепкий парень, и по тому, как он глянул на крой, я сразу понял: мастер. Но прошло сорок минут, я уже притачивал второй рукав, а он только начинал возиться с воротом. Когда же я накинул готовое пальто на манекен, он поднял голову, улыбнулся и сказал, что если б он с самого начала знал, что ягринер,[3] то не стал бы тягаться со мной за это место. Хозяин заплатил ему за готовое изделие, и он ушел искать другую работу. А я остался и понемногу освоился в ателье.
Всего у нас тут три машинки. Одна моя, вторая, прямо напротив, другого портного, Шарля, он знаком с хозяином еще с довоенных времен, но целый день сидит молчком, а третья — самого хозяина, хотя он редко к ней подходит. Шьет только подкладки и образцы, ну, иногда еще что-нибудь по мерке. В основном же его дело — раскрой.
Каждую неделю он приносит от Вассермана материал, разворачивает на своем столе и раскладывает выкройки, чтобы как можно меньше уходило в лоскут. И все время напевает чудные песенки, каких не услышишь по радио. Их пели, он говорит, до войны в мюзик-холле. А мацам Лея, жена хозяина, та если запоет, так на идише. Впрочем, в разгар сезона стоит такой шум от швейных машинок — кто что поет, все равно не слышно.
Вообще-то мадам Лея нечасто заходит в мастерскую, у нее двое детей: Рафаэль, ему тринадцать лет, и маленькая Бетти. Хорошая полная семья.
В субботу мы тоже работаем — все слишком дорожат местом. Но в этот день после обеда мадам Лея приносит нам чай в больших стаканах и по куску домашнего пирога. Молчун Шарль произносит одно слово — «спасибо», выпивает горячий чай — почти кипяток — маленькими глоточками и, прежде чем снова приняться за работу, тщательно протирает запотевшие очки.
Пока мы чаевничаем, мадам Лея смотрит на нас обоих, как будто мы тоже ее сыновья. А потом тихонечко вздыхает и уносит стаканы на кухню.
Того, что успеваем сделать мы с Шарлем, хватает на троих мастериц-отделочниц. Здесь, во Франции, портних-евреек не бывает. То есть бывает иногда, придет молоденькая девушка еврейка, но очень скоро она выходит замуж за портного, и они начинают работать самостоятельно.
Одна из наших мастериц, мадам Полетта, еврейка, но уже пожилая. Ей, правда, хочется, чтобы ее считали гойкой, и она уверяет, будто у нее эльзасский акцент. Но мне сказал Леон, что раньше у нее был натуральный еврейский, не хуже моего.
Есть еще Жаклина и Андре. Ее называют мадам Андре, потому что она была замужем и развелась. Может, поэтому она всегда такая грустная. То есть не то чтобы очень грустная, но никогда не смеется.
Правда, смеются у нас в ателье обычно тогда, когда кто-нибудь что-нибудь расскажет на идише.
Помню, мама говорила мне еще у нас в Шидловце, в Польше, что ее, мамина, мама любила повторять:
— Идиш — самый лучший язык на свете!
— Почему? — спрашивала моя мама.
А мамина мама отвечала:
— Да потому, Рейзеле, что в нем каждое слово понятно!
Но мадам Андре не смеется, даже когда говорят по-французски. Как будто не каждое французское слово понимает. Можно подумать, это из-за нашего выговора, но Леон, гладильщик, считай, во Франции родился, а она и на его шутки не смеется. Когда он первый раз назвал меня Абрамаушвицем, все от смеха аж работу побросали. А мадам Андре стала белая как полотно. Если б я не хохотал со всеми вместе, она, уж верно бы, Леона приструнила: сказала бы, что такими вещами не шутят или что ладно бы шутили неевреи, но здесь, в ателье, среди евреев, которые все испытали на себе!
Однажды, еще до этого, она пришла такая же бледная. Услышала по радио, как один певец, Жан Риго, сказал про концлагеря: «Это были не крематории, а инкубаторы!» Тогда и Леон побелел. Вслух никто ничего не сказал. Каждый переживал про себя. Я подумал: чтоб он сдох, этот певец! Мсье Альбер, хозяин, в тот день ни разу не запел, и вообще все молчали, только и слышно было, как стрекочут машинки да пар шипит, когда Леон проводит утюгом по влажной тряпке.
Мне очень нравится мадам Андре, и у меня сердце сжимается, когда она вот так белеет. Прямо прозрачная становится. Это она-то, смуглая брюнетка. Румянец ей идет гораздо больше, и, надо сказать, она легко краснеет.
У нас дома ценили румяные щеки. Мама говорила, это признак здоровья. Когда видела на улице польских девушек, розовощеких, с белокурыми косами, всегда завидовала им. И чертыхалась с досады.
Как раз несколько дней тому назад я видел, как у мадам Андре покраснели щеки. Она спросила, не соглашусь ли я, сейчас, когда кончается сезон и не так много работы, сшить ей зимнее пальто, а она, разумеется, заплатит. И вот вечером, пришив последнюю подкладку, она сняла свой синий халат, чтобы я обмерил ее. На ней была белая блузка в полоску и прямая черная юбка, и она стояла передо мной, не говоря ни слова. Объем груди — 94. Я нагнулся пониже. Объем талии — 67. Я присел и обмерил сантиметром бедра — 100. Точнехонько «стокман»[4] сорок второго размера.
Я спрятал листочек с мерками в ящичек своей машинки и стал заканчивать, что в это время делал, а сам все думал о мацам Андре. Если она хоть раз засмеется, когда Леон назовет меня Абрамаушвицем, я, может, предложу ей попробовать работать самостоятельно со мною вместе.
Первое письмо Рафаэля
Поместье Д.
Дорогие мама и папа!
Пишу вам из замка, куда мы приехали. В нашем летнем лагере очень много народа, комнат на всех не хватает, поэтому мы, старшие, кому от тринадцати до пятнадцати лет, спим в больших палатках, которые называют «марабу». Бетти спит в замке, в круглой спальне. Едим мы все в большом зале, и кормят лучше, чем в пансионе в Кламаре. В этом зале есть большой орган, но нам не разрешают его трогать. Говорят, раньше в замке был монастырь, но во время войны немцы его закрыли и все конфисковали. Тут есть еще большой зал для ручного труда, здесь я сейчас и сижу. Раз в неделю все обязательно должны писать письма, но некоторые не пишут, потому что некому. Кстати, о Кламаре — знаете, кого я там встретил? Рафаэля Первого! Помните, он был со мной в пансионе, я вам еще рассказывал, что его прозвали Рафаэлем Первым, потому что он приехал раньше меня, а со мной стало два Рафаэля? Мы устроились в одной палатке, рядом, как старые знакомые.
Когда я рассказал, что в пансионе сдавал переводной экзамен под именем Блондель и из-за этого потерял год, все рыдали от смеха. Старшая сестра Рафаэля Первого — вожатая. Вообще, вожатые очень хорошие, в первый же вечер, когда мы собрались перед сном в столовой, они рассказывали нам про Сопротивление. Мы выучили песню советских партизан, вот вернусь — спою вам.
Одного вожатого, Симона, все зовут Лейтенантом, потому что он воевал и дошел до Берлина. А нашего зовут Макс. Он хочет стать адвокатом. Забыл сказать: нас разделили на группы человек по пятнадцать, и каждой присвоили имя какого-нибудь героя. Наша носит имя Тома Фожеля. Тома Фожель был участником Сопротивления, и его расстреляли в семнадцать лет. Другие старшие группы взяли имена Шарля Вольмарка, Леона Бюрцтина и Марселя Реймана. Их тоже расстреляли немцы. Здесь все друг с другом на «ты». Даже директору говорят «ты» и называют по имени — ее зовут Люба. Это русское имя. Сегодня после обеда мы будем играть в лапту, а потом учить народные танцы. Мама, если будешь отправлять мне посылку, клади что-нибудь такое, чтобы хватило на всех — мы складываем все посылки в общий котел и делим.
Крепко целую вас и передаю ручку Бетти, чтобы она тоже приписала несколько слов.
Рафаэль
Крепко целую.
Бетти
Второе письмо Рафаэля
Поместье Д.