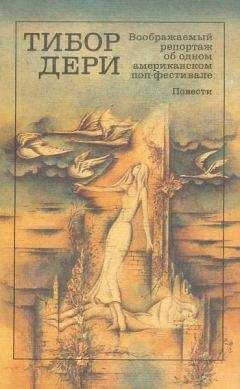Алексей Андреев - Среднерусские истории
Телевизор, кстати, от них отвлекаться тогда не помогал. Напротив, лишь усугублял. То показывал усопших в разных людных местах бомжей, то нищие жилища с останками одиноких стариков, которых за полгода или год никто не хватился, и все это на фоне забастовок, голодовок и уверений всяких авторитетных сытых людей, что надеяться большинству народонаселения не на что и дальше будет только хуже. А потом телевизор и вовсе сгорел, видимо, не перенеся показываемого. Железяка, чего с нее возьмешь? Не смогла дотерпеть до близких уже времен, когда по ней вновь стали бы показывать все сугубо оптимистическое. Включая и тех же сытых авторитетов. Которые, легко сменив пластинку, уже начали бы уверенно излагать, как у нас все хорошо и прекрасно. А будет еще лучше.
Но папа-мама Павлика о грядущем утешении ничего не ведали и от вопросов своих скорбных отвлекались по всякому другому. В первое время отвлекались поисками работы. И иногда ее находили. Но почему-то только в таких местах, где никаких денег за нее уже не полагалось. Точнее, в принципе полагалось, а на самом деле – нет. А в тех немногих местах, где хоть какие-то деньги платили, всё было плотно занято и новые люди ну совсем не нужны. На старых-то не хватало, куда уж новых брать! А для самых массовых и оплачиваемых в те времена специальностей – бандита и проститутки – папа-мама Павлика ни по возрасту, ни по способностям характера уже не подходили. Да и в небольшом нашем городке такие хлебные места оказались столь быстро заняты, что многим пришлось заниматься этим на выезде.
А родители Павлика, в поисках работы никак не преуспев, стали горячо отвлекаться своим огородом. Копать-сажать-полоть-поливать и все такое. Надеясь хоть таким путем прокормиться. Но долго ли на одних овощах протянешь? Пусть и перемежая их порой некоторыми фруктами. А на рынке нашем всем этим торговать, чтобы на вырученные деньги купить что-либо другое из продуктов питания, было бесполезно. Все жители сами имели огороды, и росло там у всех одно и то же. Так что ничем таким папа-мама Павлика земляков своих удивить не могли. Что же касается приезжих, то заносило их в городок редко и в таком ничтожном количестве, что если вдруг на рынке в течение дня их появлялось хотя бы двое, то это был очень удачный торговый день. Да и за место там надо было всяким мордатым личностям платить. Чтобы не побили с последующей конфискацией. Причем платить заранее, разумеется, при полном отсутствии гарантий, что хоть чего-нибудь удастся продать.
Какое-то время папа Павлика отвлекался тем, что просто бродил по городку и смотрел себе под ноги. Надеясь обнаружить потерянные кем-нибудь деньги. Или драгоценности. Но их почему-то никто не терял. Из полезных вещей люди теряли только пуговицы, да и то не в товарных количествах. Зато иногда удавалось найти пустую посуду. Однако не всегда удавалось ее первым взять. Очень сильна была конкуренция.
Попутно папа-мама Павлика отвлекались тем, что продавали свои накопленные вещи. Которые, правда, никто не брал. Таких в каждом доме можно найти навалом. Да и как-то слишком уж они были бэу. Хотя и относились к ним достаточно бережно. Только милиция их порой отнимала, заставая торгующих родителей Павлика в неположенных местах, да и то так, неохотно, с обидой за свой фактически бескорыстный труд.
Одним словом, отвлекаться-то папа-мама Павлика отвлекались, но вот толку от этого был круглый ноль! Даже ноль с минусом, как бы абсурдно это с точки зрения арифметики на первый взгляд ни звучало. И волей-неволей им приходилось искать что-нибудь в плане отвлечения более кардинальное. Чтобы, как учили их в детстве на примере Павки Корчагина, потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Которых у них еще оставалось, по всему, немало. И надо было их как-то со смыслом прожить. При том, что во всем окружающем никакого смысла уже не было. Одна сплошная бессмыслица вокруг наблюдалась!
И решение постепенно пришло само собой. Сначала к папе Павлика, а потом, со временем, открылось оно и его маме. Какое – см. выше.
И сразу в будущей семье Павлика воцарилась гармония. Которая нарушалась лишь тем (опять же см. выше) досадным обстоятельством, что по мере продвижения его родителей к идеалу тот становился все более недостижим. Хотя само каждодневное продвижение и отвлекало, и увлекало, и все больше поглощало. До такой степени, что в установившейся гармонии для Павлика уже не было никакого места. Но он об этом пока ничего не знал.
А получился Павлик совершенно случайно. Ненароком, можно сказать, вышел. Папа Павлика давно уже на его маму как на женщину внимания не обращал. Воспринимая ее исключительно как соратника по общему важному делу. И мама Павлика на папу его как на мужчину тоже давно не смотрела. Некогда было. Да и незачем. Они вообще друг на друге, когда удавалось сосредоточить взгляд, видели только руки и рот. Руки – на предмет, нет ли там случайно того, чего постоянно хотелось, а рот, соответственно, как место, где это хотимое могло навсегда пропасть. К большому сожалению смотрящего. У которого (которой) на это пропадаемое были, разумеется, свои виды. Самые серьезные.
И вот однажды, когда папе Павлика в очередной раз показалось, что во рту Павликиной мамы пропало значительно больше драгоценной жидкости, чем в его и чем мама вообще того заслуживала, он привычно набросился на соратницу с целью убедить в своей правоте и на будущее воспитать. И так этим увлекся, что заодно использовал ее и как женщину. Совершенно случайно. Даже толком того и не заметив.
И они тут же об этом забыли, вернувшись к более интересным делам. И сильно удивились, обнаружив спустя несколько месяцев на маме Павлика уже довольно большой живот. В котором к тому же что-то еще иногда и двигалось.
Первым их желанием было от этого живота избавиться. Но самым простым способом, легальным, избавляться от него оказалось поздно. И непростым, нелегальным, тоже избавиться не удалось. Пришлось все пустить на самотек. В надежде, что оно как-нибудь само разрешится.
И оно разрешилось. Павликом. Спасибо добрым людям, услышавшим за кустами женские крики и при этом от греха подальше не убежавшим, – не где-нибудь на улице разрешилось, а в больнице. В родильном отделении. И даже в отдельной палате. Ну, палате – не палате, но в отдельном помещении точно. Потому что другие роженицы лежать рядом с мамой Павлика наотрез отказались. Опасаясь за здоровье свое и детей. И врачи в виде исключения пошли им навстречу. Уж больно мама Павлика была на вид нехороша. А на нюх еще хуже. Как, впрочем, и папа. Но папу они на свое счастье не видели и не нюхали. А вот с мамой столкнулись воочию. И сразу лежать рядом скандально заартачились. Хотя ее перед тем и помыли. И переодели во все казенное, придав ей пусть и сиротский, но все же частично приличный вид.
В итоге маме Павлика пришлось рожать отдельно от всех. Но она этого все равно не заметила. Так как вообще плохо понимала, чего же такое с ней происходит. Будучи не совсем трезва. Или совсем не трезва, что точнее. И при этом еще переживая, что вот сейчас ее муж и соратник продолжает совершенствовать свой организм, а она этой возможности несправедливо лишена. И мечтая в ближайшее время наверстать упущенное. Как только ее освободят эти люди в белых халатах. А не освободят – им же хуже: она и здесь сможет наверстать. Вон вокруг сколько интересных пузырьков с разными многообещающими жидкостями…
За всеми этими делами она и сама не заметила, как родила. Только облегчение большое почувствовала, как после трудного, неприятного, но кому-то, видимо, нужного дела. И тут же заснула, даже не познакомившись с Павликом. С которым и в будущем знакомиться не желала. Не было у нее такой потребности. Когда-то была, а теперь всё – отсохла. Вытесненная другой, более на ее взгляд насущной. К которой она с радостью и вернулась. Пока только во сне.
А Павлик тем временем все ждал, когда же с ним мама наконец познакомится. Он даже немного покричал ей, чтоб внимание ее на себя обратить и какой-никакой разговор завязать. Пусть с его стороны пока и бессмысленный, но полный при этом самого важного смысла.
Однако знакомились с ним какие-то другие тети – чужие и совершенно ему безразличные. Они даже не знали, как его зовут! И называли Павлика то мальчиком, то младенцем, то новорожденным, то ребенком, присовокупляя всякий раз «бедный», «несчастный» или «отказной». И обсуждая между собой, что «наверняка патология». А потом и они о нем забыли, переключившись на других детей, видимо, на их взгляд, более в плане здоровья перспективных. И Павлик остался совсем один…
Вокруг, правда, еще лежали новорожденные младенцы, но каждый сам по себе, отдельно, и они-то как раз были при этом не одни. Потому что о них думали. Переживали. С ними через несколько стенок вели постоянный и никому, кроме них, не слышный разговор, окутывая их в ласковые слова и мысли, как в теплое, мягкое облако. Хотя здоровыми, если уж совсем честно, были из них далеко не все. У девочки слева откровенный диатез наблюдался. У мальчика, лежащего следом за ней, получился врожденный вывих бедра. Мальчик справа вообще родился досрочно. У его соседки все было в порядке, зато у следующей девочки не в порядке было с сердцем. И так далее. И все же обо всех них переживали и заботами нежными их мысленно укутывали.