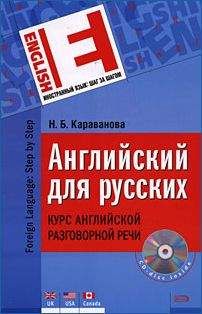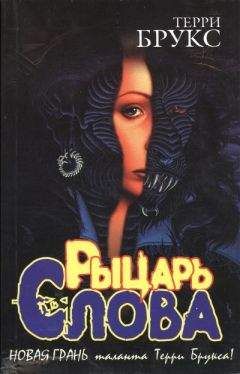Елена Чарник - Двадцать четыре месяца
– Вот ты Гребенщикова слушаешь? – спрашивал сосед.
– Ну, слушал в детстве…
– Вот видишь: слушал. Ему туда и лезть не надо было, куда он пролез. Не с такими же стишками…
Он подумал тогда, что мог бы работать собирателем мнений. Заодно зависимостей представлений людей о своей жизни от ходовых названий. Его веселило, что все семейство называло “парадной” черную лестницу, по которой поднимались в квартиру. Такие названия замыливали глаз, и самая убогая жизнь могла бы сойти за шикарную.
В квартире не было горячей воды. Принять душ было невозможно, потому что соседи не договорились о том, кто в каких долях заплатит за колонку. Не договорилось это семейство сначала с Лизиной бабушкой, потом – с Лизой. Соседка-мать еще поминала дровяную колонку так, как если бы та сейчас еще неплохо действовала и дворник приносил каждый день с утра дровишек, а соседка-невестка добавляла: “Что, я себе ведро воды не согрею жопу помыть?” Он купил эмалированное ведро и пластиковые таз и ковш. Замерзал во время этих поливаний, почему-то переносил их как унижение, хотя дома, в Крыму, тоже часто не было горячей воды в квартире, и холодной бывало – не было.
***
В начале ноября он должен был делать фотографии поющей девушки из хорошей музыкальной группы. Нужны были фотографии девушки во время выступления и студийные для обложки. Ради этих фотографий он пришел на клубный концерт. Девушка с похожим на псевдоним именем Рената и удобной для ее профессии – не отнимает силы на то, чтобы производить внешний эффект, не отвлекает музыкантов от работы – мальчиковой внешностью пела, как птица. Те, кто говорит “поет, как птица”, подразумевая – легко и свободно, не видели ни разу поющей птицы. Певчая птица поет с большим трудом, напрягаясь всем горлом, всем птичьим телом, и в то же время с наслаждением, но, похоже, не от производимых звуков, а от напряжения в поющем горле, как от спортивного упражнения, или от того, что звуки, проходя сквозь горло, доставляют ей это наслаждение. Слушатели Ренаты на самом деле подсматривали за тем, как она получает телесное удовольствие от пения. Само пение было прекрасно, в точности как у птицы.
Он сделал фотографии. Сделал и студийные на следующий день, вернее вечер. Рената не соглашалась фотографироваться в первой половине дня по понятным Саше причинам: в местном климате только во второй половине дня лицо приобретает оптимальную форму, а ведь девушка еще и пела по ночам.
Тогда он еще снимал на пленку и прислать Ренате для одобрения готовые картинки по е-мейлу не мог. Она и не просила показать себе фотографии до выхода журнала, сказала, что не сможет разрешить печатать, если увидит, что обычно ей фотографии не нравятся.
Когда вышел номер, она позвонила ему. Сказала:
– Я смотрю сейчас фотки. Ну ты даешь! Можно на “ты”? Я такого не видела ни разу! Меня и для немецкого журнала фотографировали. Нормально, кстати. Но ты – это что-то…
Она предложила встретиться, назвала очень дорогое место. Он прикинул в уме, подождет ли Лиза с оплатой квартиры, и сказал, что приедет. Он думал, что слишком шикарный интерьер ресторана ей не пойдет. Ей шло. Ей даже слишком шло. Потому что она все умела и знала, как делать здесь, вести себя. Это ему не шло. Он не знал и не умел.
Она предложила поделить счет. Он решил не думать о том, что чем-то выдал свой страх перед счетом, а считать, что она просто знает, сколько может зарабатывать фотограф. Любопытство друг к другу у них не прошло после ужина. Каждый хотел исследовать другого дальше. Ему было необходимо разобраться в устройстве ее певчего горла, а ей в устройстве его дополняющего объектив глаза. Она не удержалась и спросила, правым или левым глазом он смотрит в глазок. Из-за переходящего в возбуждение любопытства после ужина они поехали к ней на ее красном внедорожнике. Водила она на зависть красиво, так же, как обходилась с малознакомыми ему приборами в ресторане. Артистично. Как его дед – с косой, пилой, молотком, как бабка доила козу. Любила она, как пела: прикрыв глаза, но внимательно, не упуская нюансов и поворотов сюжета, и, как и на сцене, уважительно подхватывала импровизацию партнера, двигалась без усилий, как мастер йоги. У нее и тут был превосходящий опыт. Ее кожа была суховатой, она была постарше его. Он осторожно, стараясь не сжимать, гладил ее шею: сбоку справа пульсировала жилка, но струн, что звучат в Ренатином пении, он не нащупал.
Он стал жить у Ренаты, но не перестал платить Лизе за комнату. Жил Ренатиной, совсем чужой, жизнью. У Ренаты было полно свободы. Не такой, как у него, свободы отлынивания. А заслуженной свободы. Каждый признавал за ней это право – быть уверенной и ни от чего не смущаться. Но бывало, что она подходила к нему вдруг, обнимала, сводя руки за его спиной, и прижималась к нему лицом. Потом поднимала голову и смотрела снизу вверх. Она была пунктуальна и во всем очень отчетлива, но в квартире царил бардак. И оттого, что она подолгу не жила здесь из-за гастролей, и из-за постоянных набегов безалаберных музыкантов ее группы. У нее не репетировали, но обсуждали состоявшийся концерт, следующие репетиции, насвистывали будущую музыку под рояль. Музыканты у нее непрерывно ели. Где брали, неизвестно – ее холодильник стоял полупустым. Но свои холодильники у музыкантов были, наверно, пустыми совсем. Они все время намазывали остатки чего-то на огрызки хлеба. Саша не выдерживал, спускался в магазин и приносил им батон и сервелат.
Они оба уходили из дому с утра (часов в двенадцать) по своим работам и репетициям. Если она вечером не пела, встречались и ужинали в городе, но не в таких шикарных ресторациях, как в первый раз. Саше так было как-то спокойней. Она могла говорить книжно, внятно, с придаточными предложениями, что она и делала на пресс-конференциях, но общалась на сленге из “ого” и “ваще”. Так она умалчивала. Обо всем, что было для нее важным. Не верила, что что-то можно сказать словами. Но любила расспрашивать его. Заводила, как пластинку, и он послушно излагал свои мысли о теории изображения. Она удивляла его тем же, чем и сосед с русским роком, – понимала все, что он говорит, и подхватывала, не давая ему договорить до конца, разъяснить. Он привык у себя в городе, что ему нужно было все разъяснить, разжевать собеседнику, привести двадцать примеров и получить: “Да, наверно, ты прав, но я не все понимаю…” Для него легкое понимание Ренаты означало, что ничего он особенно нового не придумал, там у себя сидя, чего бы тут не знали. Он утвердился в этой мысли однажды, когда к их компании (компании Ренаты и музыкантов, где присутствовал и Саша), понемногу выпивающей после концерта, прибился парень из Екатеринбурга. Парень приехал на несколько дней к друзьям поболтаться по Питеру, пообщаться и высказать надуманное им за годы жизни в провинции. Хороший был парень. Саше он был как-то мил, как родной, беспафосный человек. Парень хотел поговорить о метафоре. Его обрывали вежливо, потом грубо затыкали, но парень начинал снова. Он был не пьянее всех остальных, но от него шарахались, как если бы он решил рассказывать один за другим неприличные анекдоты, описывать анатомические подробности своей девушки. Впрочем, в этом случае его, наверное бы, слушали. И со вниманием. Но о метафоре слушать не хотели. А Саша бы послушал. Как он понимал этого парня насчет метафоры! Ничего более захватывающего и волшебного в качестве предмета размышлений он тоже не знал. Понимал парня и в другом: тот думал, что здесь, в Питере, все размышляют о том же, что и он у себя в Екатеринбурге, только лучше, качественнее, чем это делает он, а тут никто вообще не размышляет – пройденный этап. А о метафоре – вообще неприлично, о ней в учебниках написано. Компания спрашивала друг у друга громким шепотом: “Откуда он вообще взялся? Кто его привел?” Попытались перейти в другое заведение, чтоб парень отстал. Парень не отстал, но от обиды напивался все больше. Выспросили, где он квартирует, и усадили в такси. Заплатили даже, не поскупились. А Саша смалодушничал, за парня не вступился. О нем тоже могли спросить: “Кто его привел?” А его никто не приводил, он сам пришел, он живет с Ренатой. Да мало ли с кем спит Рената. Ренатины ребята – это ее дело, а в компанию еще надо попасть.
Со средины ноября при сильном морозе совсем не было снега. По шершавому и враждебному асфальту, по промерзшей земле “газонов” ветер вьюжил сухую городскую пыль. Рената жила на канале Грибоедова, ближе к площади Репина, окно кухни выходило на канал. В это окно он однажды увидел большую собаку, белую дворнягу с коричневой мордой и парой коричневых пятен на спине и лапах. Она устроилась на ночлег на голой, промерзшей земле “газона” – плотно утоптанной полосы земли, тянущейся вдоль канала. Собака даже не поискала для себя ямку, в которой было бы поуютнее, она легла на мерзлый грунт и приготовилась спать. Он представлял себе, как там спится: с одной стороны – сырость от канала, с другой – проезжают одна за другой до поздней ночи машины. Собака, по его мнению, должна бы бояться шума автомобилей, особенно когда закрывает глаза, засыпая. Она действительно иногда поднимала голову, но смотрела не на проезжающие автомобили, а, как казалось Саше, – на него, выжидая, когда же он отойдет от окна и даст ей уснуть. На Сашу произвело впечатление то, что собака не искала для своего ночлега какого-нибудь тихого двора, куста, навеса. Тело собаки было ее единственным жилищем, о другом она не помышляла. В каком-то смысле он жил так у Ренаты. В ее доме и ее жизни не было ямки, в которой он мог бы расслабиться, оставшись совсем собой. Но одно дело чувства и душевные переживания, а другое – жизнь, которую вела в своем теле собака.