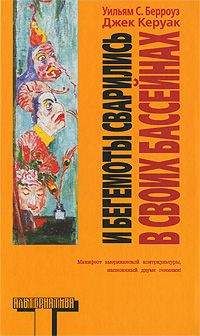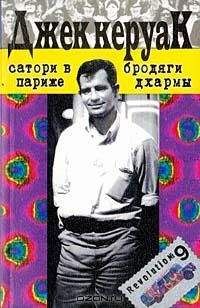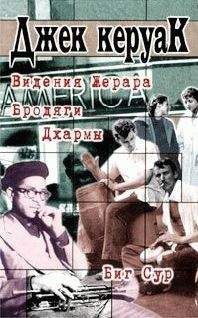Николай Студеникин - Перед уходом
— Телевизор поглядим? — нерешительно сказал Халабруй и подошел к громоздкому ящику с маленьким экраном.
Телевизор был старенький, допотопный еще, звук у него хриплый, а изображение, и без того бледненькое и расплывчатое, пряталось за белыми мельтешащими точками. Точек плясало много, и похоже было, что там, за стеклом экрана, шел снег, крупный, как в театре. Халабруй виновато покашлял и сказал:
— Алексия, попа старого, племянник приезжал хоронить. Из самой из Москвы! — Халабруй поднял палец. — Доктор телевизорных наук. Специалист! И не то чтоб, скажем, старые лечить, а новые придумывает, цветные. Хоть и неудобно было, однако я к нему подошел, спросил. «Новый, — говорит, — вам надо купить. Вот и все решение проблемы. Ваш морально старый стал. Вроде детекторного приемника. О-дрях-нел! Тем более здесь — в зоне неуверенного приема». Так ведь не получается никак — новый-то! И штраф этот еще… — Халабруй опасливо понизил голос.
— Все! — Витька шлепнул ладонью по столу. — Осенью куплю вам новый. Решено и подписано. Обжалованью не подлежит.
Мать, выйдя из комнаты, сказала с сомнением:
— Твоими бы устами…
— А вот посмотришь! Я своему слову хозяин пока. Наташк, будь свидетелем!
— Посмотрю-посмотрю, — с улыбочкой согласилась мать и спрятала руки под фартук.
«Может, долг за нее отдать?» — подумала Наташа. Сморщив лоб, она прикинула, сколько денег осталось в кошельке. Рублей девять она могла оставить матери безболезненно, а больше — никак. Сама-то она перебьется — бутылка кефира, батон за тринадцать копеек, работа у нее сейчас нетяжелая, а вот Андрейка… И Наташа решила: «С Витей поговорю. Сложимся, завтра отнесу Капитанской Дочке…»
Когда ходики с кошачьими неутомимыми глазами показывали уже без нескольких минут десять, в кухонное окошко кто-то постучал. Наташа вздрогнула — отвыкла она от этих стуков. Мать отодвинула занавеску — небо за окном было густо-синим, — всмотрелась, щурясь, и махнула рукой:
— Заходи давай! Ничего не слышу!
Вошла продавщица Тоня. Алчно покосилась на красноватые, цвета петушиного гребня или пламени под пеплом, туфли на платформах, рядышком стоявшие у порога, сказала:
— Здравствуйте все! Приятного аппетита! — И Наташе с непонятной обидой и упреком: — Что ж ты не сказала-то? А я как дурочка дома сижу — жду…
Наташа смутилась:
— Мне показалось: хватит!
— А в чем дело? — осведомился Витька.
— Да вот, Витя, — заспешила, заторопилась Тоня, нервно теребя большую, приколотую к яркому кримпленовому платью брошку, — сказала я ей, сестричке твоей, чтоб ты зашел… или кто другой, если вам хорошо посидеть не хватит, а она, видишь, забывчивая какая…
— Ну, не знала я! Не поняла! Не додумалась!
— Ладно, сейчас сходим. Делов-то! — сказал Витька, набрасывая на плечи пиджак.
Мать встрепенулась:
— Ты куда это?
— На кудыкину гору, — был ответ. — Или я арестованный?
— Ох, окрутит она его, — сказала мать, когда Витька и Тоня вышли за порог. — Как пить дать — окрутит.
— А и пусть, — отозвался Халабруй, безуспешно вращая ручки телевизора. — Там не получилось, здесь, может, выйдет что. Детей-то, слава богу, нету.
Мать не стала возражать ему — только поправила занавеску на окне, зацепившуюся за колючий цветок, и задышала часто. Витька с Тоней тем временем вышли за калитку — в пахучую, стремительно сгущающуюся тьму. Оглядев безлюдную улицу, Витька облапил Тоню за плечи. Она сбоку заглянула в его лицо:
— На танцы пойдем? — и торопливо отстегнула брошку.
— Зачем? — удивился Витька. — Пусть бы висела.
— У ней края острые — рубашку порвешь, — Тоня порывисто обняла его за шею. — Витенька, солнышко ты мое! Неделя ведь. Соскучилась-то я как…
Мимо, по самой середине улицы, выставив напоказ плоские наручные часы, прошли три девочки со сложными самодельными прическами, одна — на высоченных, подламывающихся каблуках. Они шествовали медленно и чинно, будто не замечая, что сзади плетется орава мальчишек, их ровесников. Но вот один из этой юной поросли свистнул, чтобы привлечь внимание девчонок, а второй, в белой рубашке, петушиным голосом запел:
Суббота суббота,
Хороший вечерок…
Девчонки на миг потеряли чопорность: прыснули и оглянулись. Та, которая на высоких каблуках, чтоб не упасть, схватилась за руки подружек.
4
— Занесли? — спросила мать о подушках и перине.
— Ну? — коротко ответил Халабруй.
— Прожарились от души, — сказала Наташа.
Витька добавил, щурясь:
— Да, солнце сегодня… Как в Молдавии! Эх, и чего у нас тут Черного моря нету и виноград не растет?
— А теперь — обедать, — распорядилась мать.
Сначала поели взрослые. Водки на столе не было — диво для воскресенья. Витька сидел хмурый, ел мало; трезвый Халабруй по обыкновению молчал, только ходили желваки под морщинистой бритой кожей. Зато уж мать говорила, говорила… Будто завели ее, как кошку на ходиках. Наташа, чтобы не слышать, как мать без устали бранит брата, считала про себя — от единицы до ста и, переведя дыхание, снова — от единицы. Потом Наташа кормила Андрейку — совала в беззубый ротик ложечку с овощной смесью.
— Бесстыжие твои глаза, — бубнила за занавеской мать. — Кобель! Пал Николаич узнает, что будем делать?
Павел Николаевич — это Витькин тесть. Некогда он был довольно видным в районе человеком, номенклатурным работником: директорствовал на кирпичном заводике, был председателем райпотребсоюза. Но это — в прошлом. А теперь Павел Николаевич получал заслуженную пенсию, возился на приусадебном участке — выращивал на этом клочке земли какие-то особенные цветы и раннюю, крупную, лишенную запаха клубнику. Наташе недавно попал в руки номер областной газеты. Короткая заметка о сладкой ягоде, помещенная на четвертой странице, в «Уголке садовода», была подписана: П. Н. Анучин, персональный пенсионер. «Родственничек! Андрейке ягодки не прислал!» — всею душой возмутилась тогда Наташа, позабыв на миг, что сын ее еще слишком мал и что на личике у него то и дело появляются пятна и корочки диатеза, который, старухи говорят, хорошо лечить дегтем — мазать; да где ж его добыть, деготь-то? Нынче чистый деготь — дефицит.
— Хватит, мама! — срывающимся голосом крикнула Наташа. — Дался тебе твой Пал Николаич! Пусть Витя делает, как знает! Тоня — хороший человек!
То, что у брата Витьки есть что-то серьезное с продавщицей Тоней, было для Наташи новостью. И — немалой. Она узнала об этом только сегодня утром. Оказывается, Витька не явился домой ночевать. Но мать больше всего взбесило то, что Витькины «шашни» прикрыты ее именем. «Сказал, что к матери родной едет, а люди и поверили, — кипятилась она. — А сам — к полюбовнице! От живой жены. Образованной! Поеду вот, Пал Николаичу все выложу. Сама! Пусть с ними решает, как хочет. Его власть. Он за меня перед милицией хлопотал. Останусь чистая перед ним…» — «Ну, будет тебе, хватит, — урезонивал ее Халабруй. — Много он нахлопотал-то? Одни слова!» Наташу меньше удивила пикантная новость, а больше то, что о Лиде, Витькиной жене, не было сказано ни слова. «Пал Николаич, — думала она. — Пал Николаич! Гора высокая! Родную дочь заслонил ваш Пал Николаич».
— А ты молчи! — Разъяренная мать влетела в комнату, едва не сорвав ситцевую занавеску с двери. — Тебе слова нету! Все у тебя хорошие, все золотые! Ивана твоего Ветрова такая ж Тонька за собой увела. И-эх, фефела! Всю жизнь одна будешь мыкаться из-за характера своего. Тьфу! — Мать в сердцах и правда плюнула на пол. — Глаза б мои на вас не глядели!
«Иван Ветров? Какой Иван Ветров?.. Неправда!» — хотелось выкрикнуть Наташе, но она поняла, что в грубых и нестерпимо обидных словах матери есть своя правда, пусть вывернутая наизнанку, и смолчала. Что они понимают все? Что они могут понять? И главным для Наташи стало — сдержаться, не заплакать. А мать, растерев босой пяткой плевок и внезапно сменив гнев на милость, склонилась над внуком и мирно, как ни в чем не бывало спросила у дочери:
— Спать его счас уложишь, да?
Наташа отвела глаза в сторону и молча кивнула. Говорить сейчас с матерью не было сил — мешал ком в горле, готовые брызнуть слезы. Наташа отчетливо поняла, что никогда и ни за что на свете не вернется домой. Никогда и ни за что! Домой, как в прошлое, возврата нет. «Иван Ветров, Иван Ветров! Сочетание-то какое… жеребиное, — думала она, уперев невидящий взгляд в стену. — Каждый день она Иваном этим меня бить будет, без отдыха!»
— Мух надо выгнать, — сказала мать, задергивая оконные занавески. — Ну, бери рушник, чего стала? И кашу-то из черемухи я варила, и липучки вешала, пока были, и этот в блюдцах замачивала… как его — «мухомор»? — ничего на них не действует, ничего не помогает! Заговоренные они, что ль?