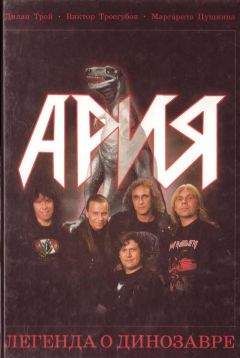Пол Скотт - Жемчужина в короне
Мисс Уильямс сошла с возвышения, на котором стоял ее стол и всего один стул. Мисс Крейн, в ответ на ее приглашающий жест, села на стул, а священник стал с нею рядом. Перед тем, знакомя их, он назвал только мисс Уильямс, и мисс Крейн попыталась улыбнуться девушке, чтобы загладить его оплошность, но губы у нее тоже пересохли, и она вдруг почувствовала на своем лице то же выражение, что так часто появлялось на лице миссис Несбит-Смит. Выражение это стало еще более четким, когда она наконец посмотрела на детей и осознала, что они взирают на нее, одинокую и косноязычную, с благоговейным любопытством, может быть, даже со страхом. Ее простенькое платье, самое нарядное ее платье, которое она надела, чтобы выглядеть как можно лучше, — белое муслиновое с оборкой, но без каких-либо украшений, кроме перламутровых пуговок, пущенных по плиссированному пластрону; соломенная шляпа, нахлобученная на высокую прическу; зонтик из белого ситца на розовой подкладке — подарок от миссис Несбит-Смит на прошлое Рождество — все тяготило ее, словно обременительное мишурное одеяние общественного класса, к которому она не принадлежала.
По знаку мисс Уильямс маленькая девочка, босая, в балахоне из какой-то мешковины, но с косичкой, украшенной ради торжественного случая цветами, и с букетом в руках выступила вперед, сделала книксен и протянула букет мисс Крейн. Та взяла его, попыталась сказать «Спасибо тебе», но девочка, видимо, не разобрала слов и взглянула на мисс Уильямс, чтобы удостовериться, что ритуал подношения окончен. Мисс Крейн уткнулась в цветы носом, не видя их красок, не слыша запаха, а когда опять подняла голову, девочка уже стояла на своем месте в первом ряду, среди других девочек.
— Как вы думаете, мисс Крейн, — сказал священник, — мне кажется, теперь дети опять могут сесть. А потом они либо споют нам песню, либо скажут стихи, которые мисс Уильямс, я в том не сомневаюсь, репетировала с ними все утро.
Мисс Крейн беспомощно опустила глаза на свои цветы, чувствуя, что и мисс Уильямс, и мистер Дай наблюдают за ней, ждут, что она сделает. Она кивнула головой и устыдилась, что первую в своей жизни общественную обязанность выполняет так плохо.
Дети послушно сели и сидели молча. Мисс Крейн решила, что они почуяли ее замешательство и истолковали его как неудовольствие или как скуку. Она заставила себя посмотреть на мисс Уильямс и произнести: — Мне очень интересно послушать, как они поют, — потом, спохватившись, добавила: — Или читают стихи, или и то и другое. Пожалуйста, попросите их показать, что они приготовили.
Мисс Уильямс повернулась лицом к классу и проговорила по-английски медленно, с непривычными для английского уха интонациями:
— Ну, дети, что бы нам спеть? Давайте споем «Есть Друг», — и добавила: «Аччха»[2] — слово, которое мисс Крейн отлично знала, но за ним последовали другие слова на хиндустани, так быстро, что она не успела уловить смысл. Я даже язык толком не знаю, подумала она, как же я смогу преподавать?
А дети уже снова встали. Мисс Уильямс, отбивая в воздухе такт, медленно пропела первую строку гимна, который мисс Крейн при других обстоятельствах сразу бы узнала. Потом умолкла, опять махнула рукой, и дети запели — нестройно, робко, голоса их еще не привыкли к диковинному чужеземному ладу.
Есть Друг на небе ясном
У маленьких детей,
Земной любви короткой
Его любовь сильней.
Товарищи земные
Нас предают порой,
Лишь Он всегда нам верен,
Лишь Он всегда с тобой.
Приют есть в небе ясном
Для маленьких детей,
Кто молится и грешных
Не ведает путей.
Не будет там ни горя,
Ни бедствий, ни забот.
Там каждый юный странник
Навек покой найдет[3].
Они пели, а мисс Крейн смотрела на них. Сплошные оборвыши. В детстве этот гимн был одним из ее любимых и, если бы сейчас его пели так, как поют английские дети, под аккомпанемент рояля или фисгармонии, как бывало в плохонькой школе ее отца, она, возможно, поддалась бы нестерпимой грусти, сожалениям об утраченном мире, об утраченном покое и очаровании детства. Но она не ощутила ни грусти, ни душевного подъема. В ней закипал протест против этой несообразности, против самой идеи заглушить в этих детях веру в их родных богов и заставить их поклоняться единому богу, которому она сама когда-то молилась, а теперь не очень-то в него и верует. И еще она внезапно прониклась к ним страстным уважением. Голодные, нищие, обездоленные, и все же невольно думаешь, что где-то (а значит, именно здесь, в черном городе) их любят. Но родители их знают, что одной любви недостаточно. От любви ни сытей, ни богаче не станешь. А тут как-никак бесплатные лепешки.
И тогда ей стало ясно: единственное, что дает ей право, ей и таким, как она, сидеть на стуле, когда другие стоят, сжимать в руке букет и слушать выученную в ее честь песню, внушая благоговение безграмотным детям, — это сознание своей обязанности трудиться во имя человеческого достоинства и счастья. И тогда она перестала стыдиться своего платья, бояться школьного здания и запаха горящего кизяка. Кизяк здесь — единственное доступное топливо, здание тесное и душное, потому что нет средств расширить его, а ее платье — всего лишь символ ее общественного положения и твердого намерения не выказывать страха, не испытывать страха, по мере сил обрести милосердие и собственное достоинство, стать живым доказательством того, что есть где-то в мире надежда на лучшее.
Когда пение кончилось, она, запинаясь, сказала на хиндустани: «Спасибо вам, мне очень понравилось», а потом попросила у мисс Уильямс разрешения еще побыть в школе, пока дети будут есть лепешки и играть, и, если у мисс Уильямс найдется время, порасспросить ее о работе учительницы.
Вот так мисс Крейн пустилась в долгий, трудный, временами опасный путь, который через много лет привел ее в Майапур, на должность инспектора школ протестантской миссии.
* * *Портрет мистера Ганди она сняла со стены. Но была еще картина, более давнее ее достояние, которая по-прежнему висела над ее рабочим столом в комнате, служившей ей и кабинетом, и спальней. Получила она ее в подарок в 1914 году, на пятый год своей работы в миссии, когда ушла из школы в Муззафирабаде, где служила под началом некоего мистера Клегхорна, и стала единственной учительницей школы в Ранпуре.
Картину ей преподнесли на прощание, в знак уважения. Председательствовал на этом собрании сам глава миссии, а вручил ей подарок мистер Клегхорн под аплодисменты и приветственные возгласы детей. Она до сих пор хранила в ящике стола табличку с надписью, некогда прикрепленную к раме. Табличка была золоченая и успела облупиться, а черные буквы надписи выцвели, но прочесть ее еще было можно. Надпись гласила: «Кристине Эдвине Лавинии Крейн за проявленное ею мужество от персонала и учеников школы англиканской миссии в Муззафирабаде, СЗПП[4]».
Она открепила табличку, еще не доехав до Ранпура, потому что ее смущало слово «мужество». Что она такого совершила? Всего-то стала в дверях школы, куда еще раньше загнала детей, и заявила кучке совсем не страшных смутьянов — заявила на урду, без запинки, в выражениях, которые едва ли решилась бы употребить в разговоре с начальством, — что в школу их не пустит. Впрочем, что они не страшные — это она себе внушила, хотя часом позже они или их более решительные единомышленники разграбили и сожгли дом католической миссии, ворвались в полицейский участок и двинулись к кантонменту, где солдаты живо с ними расправились — одного из зачинщиков застрелили, а остальные залпы дали в воздух. Четыре дня город жил на военном положении, когда же порядок восстановили, мисс Крейн с неудовольствием обнаружила, что оказалась в центре внимания. Ее посетил окружной судья в сопровождении начальника полиции и лично выразил ей благодарность. В ответ она сочла нужным сказать, что вполне допускает, что поступила неправильно: может быть, следовало впустить смутьянов в школу, и пусть бы сожгли, что им там не нравилось, — молитвенники или распятие. А она их не впустила, и они ушли совсем уже разозленные, и сожгли дотла католиков, и вообще натворили много бед.
Когда мистер Клегхорн, вернувшись из отпуска, пожелал услышать подробности о том, что знал только по слухам, она решила просить его о переводе в другое место, где она могла бы работать без постоянных напоминаний о своем ложном положении, так она выразилась. Она заявила мистеру Клегхорну, что просто не может обучать детей, которые видят в ней какую-то героиню с рекламы и на школьную доску смотрят одним глазом, потому что другого не сводят с двери, предвкушая новое вторжение, которое она тут же пресечет. Мистер Клегхорн сказал, что не хотел бы с ней расставаться, но вполне ее понимает и, если она не шутит, он берется написать начальству миссии и объяснить, как обстоит дело.