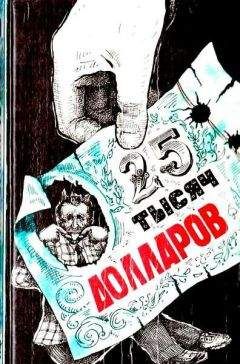Малькольм Лаури - У подножия вулкана. Рассказы. Лесная тропа к роднику
Это была как бы более старая и цивилизованная разновидность Курселя на западном побережье Англии. Таскерсоны жили в большом, прекрасно обставленном доме, за домом был сад, а за садом — замечательное, усеянное буграми и впадинами поле для игры в гольф, выходившее дальним своим концом к морю. Так по крайней мере казалось; в действительности же это был эстуарий реки в семь миль шириной: белые гривы пены на западе обозначали границу настоящего моря. Почти вплотную к реке подступали Кембрийские горы, мрачные, черные, в шапках облаков, кое-где со снеговыми вершинами, которые пробуждали в душе Джеффри воспоминания об Индии. В будние дни мальчикам разрешалось играть на поле для гольфа, где почти всю неделю было пустынно: только косматые желтые цветы трепетали на ветру среди кружевной тины. На берегу еще уцелели кое-какие деревья от прежней лесозащитной полосы, торчавшие среди скопища черных пней, а за ними виднелся старый, невысокий маяк, давным-давно заброшенный. Посреди эстуария был остров, на нем стояла ветряная мельница, похожая на экзотический черный цветок, и во время отлива туда можно было добраться верхом на осле. Дымы грузовых судов, шедших из Ливерпуля, низко стлались по горизонту. Всюду ощущался привольный простор. Лишь по субботам возникали помехи: хотя летний сезон уже кончался и серые водолечебницы, выстроившиеся вдоль аллей, пустовали, на поле для гольфа весь день толклись ливерпульские маклеры, играя двое на двое. С самого субботнего утра и до воскресного вечера без передышки крышу бомбардировали мячи, пущенные с поля. В такие дни они с Джеффри охотно отправлялись в город, где было так много хорошеньких, улыбчивых девушек, и бродили по солнечным улицам, подставив лицо ветру, или смотрели на набережной забавные представления с участием Пьеро. А лучше всего было взять напрокат большую яхту длиной футов в двенадцать, которой Джеффри прекрасно умел управлять, и кататься на ней по заливу.
Здесь — как и в Курселе — они с Джеффри обычно были предоставлены самим себе. И теперь Жак гораздо ясней понял, почему в Нормандии он так редко видел Таскерсонов. Эти мальчишки обладали невероятной способностью ходить без устали. Им ничего не стоило пройти за день двадцать пять, а то и все тридцать миль. Но еще поразительней, если принять во внимание, что все они учились в школе, была их невероятная способность пить без устали. За время пятимильной прогулки они не пропускали ни единой пивной, и каждый осушал там пинту-другую крепчайшего пива. Даже самый младший, которому еще не было и пятнадцати, поглощал за день не менее шести пинт. А если порой кого и стошнит, что ж, тем лучше. Освобождается место, и можно пить снова. Ни Жак, с его слабым желудком — хотя у себя, во Франции, он привык к вину, правда в умеренных количествах, — ни Джеффри, который питал к пиву неодолимое отвращение и к тому же учился в методистской школе, где учеников воспитывали в духе строгого воздержания, не могли бы осилить этой поистине средневековой меры. А все семейство предавалось беспробудному пьянству. Старик Таскерсон, человек грубоватый, но не злой, недавно потерял одного из сыновей, единственного, кто хотя бы отчасти унаследовал его литературный талант; по вечерам он всегда задумчиво сидел у себя в кабинете, оставив дверь приотворенной, и часами пьянствовал в одиночестве, причем на коленях у него мурлыкали любимые кошки, а вечерняя газета неодобрительно шелестела, словно порицая его сыновей, тоже часами пьянствовавших в столовой. Миссис Таскерсон, которая дома преобразилась до неузнаваемости, вероятно потому, что здесь не было особой необходимости производить благопристойное впечатление, сидела подле своих сыновей, видная собой, изрядно раскрасневшаяся, и тоже поглядывала на них с известным неодобрением, что не мешало ей, однако, усердно поить всех подряд до бесчувствия. Правда, мальчики были из молодых, да ранние… Никто еще не видел, чтобы они ходили, шатаясь, по улице, такого за ними не водилось. Чем пьяней бывали они, тем трезвей выглядели на вид, почитая это за долг чести. Обычно они щеголяли потрясающей выправкой, как гвардейцы в строю: грудь колесом, голова высоко поднята, и лишь к вечеру ощутимо замедляли шаг, однако сохраняли те «мужественные манеры», которые произвели столь неотразимое впечатление на отца Ляруэля. Правда, наутро частенько можно было видеть, как они всем семейством спят в гостиной на полу. Но это никого не смущало. В кладовке всегда стояли пузатые бочонки, и каждый мог нацедить себе пива сколько душе угодно. Эти здоровые и сильные парни обладали волчьим аппетитом. Они поглощали чудовищную мешанину из поджаренных бараньих желудков, мясного фарша и кровяных колбас, какое-то невероятное блюдо из требухи, запеченной в овсяной муке, причем вся эта снедь, как опасался Жак, по крайней мере отчасти, готовилась и для него — ну, ты же знаешь, Жак, это boudin[22], а Дружище, которого все чаще теперь называли «этот Фермин», сидел растерянный, отвернувшись от стола, не прикасаясь к своему стакану со светлым пивом, и застенчиво пытался поддержать разговор с мистером Таскерсоном.
Поначалу трудно было понять, как вообще «этот Фермин» попал в столь неподобающее семейство. Он не ладил с Таскерсоновыми сыновьями и даже учился в другой школе. Но было совершенно ясно, что родственники, пристроившие его сюда, сделали это с благими намерениями. Ведь Джеффри «вечно сидел, уткнувшись в книгу», а стало быть, «кузен Абрахам», сочиняющий стихи в религиозном духе, «самый подходящий человек» для того, чтобы принять в нем участие. А о его сыновьях они, вероятно, знали не больше, чем родители Жака: эти мальчики были у себя в школе первыми по английскому языку и, разумеется, первыми во всех спортивных состязаниях; несомненно, эти славные, добросердечные ребята «как нельзя лучше» повлияют на беднягу Джеффри и он преодолеет свою застенчивость, перестанет «сохнуть» по своему отцу и своей Индии. Жак всей душой жалел бедного Джеффри. Мать его умерла в Кашмире, когда он был еще малюткой, а отец около года назад женился вторым браком, после чего исчез без следа, вызвав этим самые скандальные толки. Ни один человек в Кашмире и вообще на всем свете не знал, что же с ним сталось. В один прекрасный день он ушел в горы и сгинул там, оставив в Шринагаре Джеффри и мачеху с Хью, его единокровным братом, на руках, тогда совсем еще крошечным. Вскоре к довершению несчастья умерла и мачеха, после чего осиротевшие дети остались в Индии совсем одни. Бедный Дружище! Несмотря на все свои странности, он так трогательно ценил малейшее проявление доброты. Он бывал растроган, даже когда его называли «этот Фермин». Он всем сердцем привязался к старику Таскерсону. Ляруэль чувствовал, что по-своему он привязался ко всем Таскерсонам и готов пожертвовать за них жизнью. В нем была какая-то обезоруживающая беспомощность и в то же время беззаветная преданность. В конце концов Таскерсоновы сыновья, когда он впервые проводил в Англии каникулы, старались по-своему, как могли, с чисто английским чудовищно грубым добродушием выказать ему свою приязнь и проявить дружеское внимание. Не их вина, если ему не по силам было выпить семь пинт пива за четверть часа или пройти без отдыха полсотни миль. Самого Жака сюда пригласили отчасти благодаря им, чтобы Джеффри не скучал в одиночестве. И отчасти они действительно помогли ему преодолеть свою застенчивость. По крайней мере Дружище, а заодно и Жак выучились у Таскерсонов английскому искусству «подцеплять девчонок». Они распевали нелепую песенку из спектакля, чаще всего с французским акцентом, свойственным Жаку.
Они шли по главной аллее и горланили:
Ми ходиль шаляй-валяй побродить,
Ми решиль шаляй-валяй говорить,
Ми носиль шаляй-валяй котелок,
На красавиц глядель шаляй-валяй
Наш глазок. О-ох.
Ми началь шаляй-валяй распевать,
Шаляй да валяй, хоть умри,
И кончаль шаляй-валяй помирать
До зари.
После этого полагалось крикнуть: «Эй, ты!» — и увязаться за той девушкой, которая оглянулась, а стало быть, выказала свою благосклонность. Если это было так и дело шло к вечеру, надлежало пригласить ее на поле для гольфа, где полно укромных или, как выражались Таскерсоны, «качественных местечек». Находились они во впадинах или в промежутках меж дюн. С дюн оползали сыпучие пески, но зато глубокие впадины падежно охраняли от ветра; самой глубокой из них была «Преисподняя». Игроки в гольф пуще смерти боялись этой Преисподней, которая разверзлась у самого дома Таскерсонов, на длинной, пологой восьмой дорожке. Она как бы стерегла площадку, правда у дальних подступов, значительно ниже и чуть левее ее. Впадина зияла в таком месте, что способный и ловкий игрок вроде Джеффри загонял туда мяч с третьего удара, а бездарность вроде Жака — примерно с пятнадцатого. Жак и Дружище обычно уговаривались зазвать девушек в Преисподнюю, но, куда бы они ни пошли, само собой разумелось, что дело кончится совершенно благополучно. И вообще они «подцепляли девчонок» без тени дурных намерений. В скором времени Дружище, который, мягко выражаясь, был безгрешен, и Жак, строивший из себя искушенного греховодника, завели обычай «подцеплять девчонок» на главной аллее, вести на поле для гольфа и там на время расходиться парами, а потом снова сходиться вместе. Как ни странно, у Таскерсонов было строго положено приходить домой вовремя. Ляруэль и по сей день не знал, почему они с Джеффри не условились заранее насчет Преисподней. Конечно, у него даже в мыслях не было подглядывать за Джеффри. Просто он со своей девушкой, которая ему вскоре наскучила, пересекал восьмую дорожку, и оба вздрогнули, когда из впадины донеслись голоса. При свете луны им открылось такое, что они никак не могли отвести глаз. Ляруэль охотно ушел бы прочь, но они с девушкой — едва понимая смысл происходящего в Преисподней — не могли удержаться от смеха. Любопытно, что Ляруэль не запомнил слов, которые были тогда сказаны, память его сохранила только выражение лица Джеффри при лунном свете и смешную неловкость, с какой его девушка вскочила на ноги, да еще развязную самоуверенность, с которой держались после этого он сам и Джеффри. Все вместе они отправились в пивную с каким-то странным названием, вроде «Обстоятельства переменились». Джеффри, явно впервые в жизни, предложил пойти выпить; он громко потребовал виски «Джонни Уокер» на всех, но бармен, повинуясь приказу хозяина, ничего им не подал, а выставил всех вон по несовершеннолетию. Увы, в силу известных причин дружба их не выдержала этих двух печальных, но, несомненно, ниспосланных свыше мелких неудач. Тем временем отец Ляруэля раздумал отдавать сына в английскую школу. Каникулы истекли среди томительной скуки и гроз, налетевших после осеннего равноденствия. Мальчики простились хмуро и тоскливо в Ливерпуле, откуда Жак, хмурый и тоскливый, уехал в Дувр, а потом на борту какой-то старой посудины один, словно бродячий торговец, на родину, в Кале…