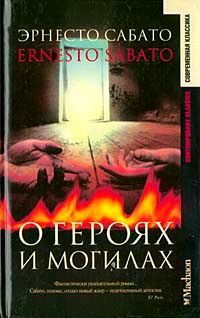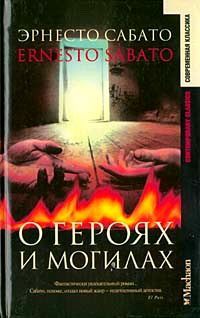Эрнесто Сабато - Аваддон-Губитель
— Но скажи на милость, не лучше ли было бы, вместо того, чтобы молча злобствовать, объяснить мне, что ты там наговорил?
— С какой целью?
— Ах, ты считаешь, что я недостойна знать.
— Если бы это тебя так уж интересовало, могла бы пойти на лекцию.
— У Пипины понос.
— Ладно, хватит.
— Как это — хватит? Для меня эта проблема очень важна.
— И ты требуешь, чтобы я тебе объяснил в четырех словах то, что там анализировал два часа? И еще говоришь о легкомыслии.
— Я не требую, чтобы ты объяснил мне все. Только идею. Основную идею. И, кроме того, ты должен согласиться, что у меня в голове есть чуть побольше, чем у тех богачек, которые ломятся тебя послушать.
— Да брось. Там было полно студентов.
— Если не ошибаюсь, ты как-то сказал мне, что всякая философия — это развитие некой центральной идеи, даже метафоры: панта реи[28], река Гераклита, сфера Парменида[29]. Да или нет?
— Да.
— А теперь заявляешь, что для твоей теории о Сартре требуются два часа. Что, она сложнее, чем философия Парменида?
— Да ну, чушь.
— Что?
— Это заявление Сартра о «Тошноте»[30], — устало пояснил он.
— Заявление? Какое заявление?
— Он сделал его уже давно. Безусловно, из-за чувства своей вины.
— Своей вины?
— Конечно, ведь столько детей вокруг умирают с голоду. И в это время писать романы…
— Какой там ребенок умирает с голоду?
— Да нет, мама. Ну и что?
— Я развивал эту идею.
— И эта его идея тебе не нравится?
— Не начинай опять.
— В чем же дело?
— А вот в чем. Можешь ты мне ответить, когда это роман — пусть не «Тошнота», а любой роман, лучший в мире роман, «Дон Кихот», «Улисс», «Процесс», — помог спасти от смерти хотя бы одного-единственного ребенка? Не будь я убежден в честности Сартра, подумал бы, что это фраза демагога. Больше тебе скажу: каким образом, когда, каким путем хорал Баха или картина Ван Гога спасли от голодной смерти хоть одного ребенка? Но тогда, по мнению Сартра, нам следует отказаться от всей литературы, от всей музыки, от всей живописи?
— Недавно в одной кинохронике про Индию показали детишек, умирающих с голоду на улице.
— Да, мама.
— Ты тоже ее видела?
— Нет, мама.
— И еще я читала книгу одного французского писателя, Жюля Ромена… нет, погодите… Ромен Роллана — так, что ли? — вечно я путаю фамилии, просто ужас… словом, о том же.
— О чем же, мама?
— О ребенке, умирающем с голоду. Как же его звать?
— Кого?
— Этого писателя.
— Не знаю, мама. Это два писателя. И я не читаю ни одного из них.
— Тебе бы не повредило читать побольше, вместо того, чтобы столько спорить и выпивать столько виски. А ты, Эрнесто, тоже не знаешь?
— Не знаю, Маруха.
— Значит, ты полагаешь, что Сартр заблуждается. Вот видишь, тот, кто мне рассказал, говорил правду. Да или нет?
— Это не означает дурно отзываться, тупица. Это почти защита его от слабости. Я хочу сказать, защита лучшего Сартра.
Выходит, Сартр, который горюет из-за смерти ребенка, плохой Сартр?
— Ну, знаешь, это софизм величиной с целый шкаф. При таком критерии Бетховен плохой человек, потому что в самый разгар Французской революции сочинял сонаты, а не военные марши. Давай не будем снижать уровень нашего разговора.
— Ладно, вернемся к твоему аргументу. Ты хочешь сказать, что Сартр рассуждает неправильно. Что он не способен к строгому мышлению.
— Я этого не говорил. Дело не в том, что он плохо рассуждает, а в том, что он чувствует себя виноватым.
— Виноватым в чем?
— В этой смеси одержимости и протеста.
— Ну и что?
— Да так. Возможно, здесь влияет фамилия, как-никак его родственник Швейцер[31]. Другой момент — уродливость.
— Уродливость? Какая тут связь с его заявлением?
— Уродливый мальчик, жаба. Ты читала «Слова»[32]?
— Читала. Ну и что?
— Он приходил в ужас, когда на него смотрели.
— И что же?
— Что могут видеть в тебе? Тело. Ад — это чужие взгляды. От взглядов мы каменеем, мы покоряемся. Разве не это темы его философии, его литературы?
— Как ты легковесно судишь. И к этим четырем словам ты хочешь свести все учение Сартра?
— Если память мне не изменяет, ты только что требовала, чтобы я это сделал. Панта реи.
— Ладно уж, теперь ты хочешь сделать основой целой философии психологический комплекс. А если тебя уличат большевики?
— Стыдливость — это не тривиальное чувство, особенно стыдливость ребенка. Она может достичь потрясающего экзистенциального уровня. Я стыжусь, значит, существую. Отсюда исходит все.
— Так уж и все! По-моему, ты чересчур размахнулся.
— Почему? Главная тема в произведениях творческой личности исходит из навязчивой идеи его детства. Подумай о литературных опусах Сартра. Хоть кто-нибудь там выведен голым?
— Думаешь, у меня нет другого дела, как вспоминать персонажей Сартра, как они одеваются или раздеваются. Я уже сто лет как его не читаю.
— Я это говорю, потому что ты меня довела. Одному хочется смотреть на людей сверху вниз — так он себя чувствует всемогущим. Девушке нравится наблюдать за подругой, когда та ее не видит. Какой-то чудак наслаждается, воображая себя невидимкой, и одна из его радостей — подглядывать в замочную скважину. Еще кто-то представляет себе ад в виде взгляда, пронзающего его насквозь. В одном произведении ад — это взгляд женщины, взгляд, который приходится терпеть целую вечность.
— Ладно, хватит. Мы уже Бог знает куда забрели. Но философия…
— Мне кажется, ты читаешь книги поверхностно. Или ты не читала «Бытие и ничто»[33].
— Конечно, читала, но это же девятнадцатый век.
— Потому-то я и говорю.
— Что говоришь?
— Что ты все читаешь поверхностно. Иначе ты постоянно вспоминала бы о невидимом мире, о полете души над землей. Там целые страницы о теле, о взгляде, о стыдливости.
В это время вошел Кике и сказал:
— Маруха, ты с каждым днем все хорошеешь, et tout et tout[34]. — Потом, обращаясь к С.: — Добрый день, мэтр.
Тут С. понял, что засиделся, и ушел.
Едва он вышел, Беба с возмущением набросилась на Кике:
— Я предупреждала тебя, чтобы ты его не задирал, хотя бы в моем присутствии!
— Не могу себя сдержать, любовь моя. С тех пор как он заставил меня работать в его романе, надо хоть немного разрядиться. Зануда. Трижды педант, пустой болтун. Когда-нибудь, когда будет время, расскажу тебе парочку историй, пальчики оближешь. И все эти сплетни, уверяю тебя, точно документированы.
— Не понимаю, почему тебе вместо этих гадостей не рассказать какие-нибудь свои остроты.
— Ты думаешь, в его присутствии?
— Ясное дело.
— Как бы не так! Чтобы потом мои фразочки появились в его романе? В этом романе, над которым он работает уже сто двадцать лет?
Кике помрачнел
Запретить Кике злословить было, по мнению Бебы, все равно, что запретить Галилею произнести его знаменитую фразу. Но приход Сильвины с подругами из колледжа мгновенно его оживил, особенно, когда они сказали, что видели молодого Молину в кожаной куртке на мотоцикле.
— Прекрасно! Эка невидаль — священник в сутане! Нет, священники в шортах, монахини в бикини. Долой мессу на латыни, раз есть такой замечательный всем понятный язык, как у мексиканца с телевидения. Уверяю вас, католичество станет таким же популярным, как футбол для неимущих слоев. Еще бы! Священники вместо цитат из святого Фомы сыплют эффектными фразами Маркса и Энгельса. Après tout[35], христианство всегда стремилось быть популярным. Если не верите, девочки, подумайте о крещении водой, самом дешевом. Если только не взбредет в голову креститься в Сахаре. Вспомните о тех недоумках, что изобрели крещение бычьей кровью. Какой культ удалось бы распространить при таком расточительстве, — всякий раз, чтобы окрестить младенца, надо забивать быка. Это религия для римских суперолигархов. А здесь — для bèbès[36] семейства Анчорена[37] или, по крайней мере, для разбогатевших итальяшек вроде Бевилаквы.
— Что там случилось с Бевилаквой? — спросила Маруха, поднимая голову от кроссворда. — Он что, купил быка?
— Но для простого бедняка, что найдешь дешевле, чем Святая Апостолическая Римская Церковь? Дешево, как в супермаркете.
— Ладно, расскажи-ка нам про Лосуару.
Кике раскинул свои длиннющие как крылья ветряка руки и воздел их вверх, заодно подняв глаза, как бы призывая богов.
— О, эти женщины! — воскликнул он.
— Давай, рассказывай!
— Вам известно, что я как репортер специализированного издания — надо вам также знать, что теперь я один из столпов «Радиоландии», один из электронных мозгов этого интересного еженедельника, — обязан следить за движением кинолюбителей. Хотя мне, к счастью, не требуется ходить в «Лотарингию» и в прочие кинотеатры, где доят народ под предлогом распространения культуры, — еще одно бедствие в нашем городе, и без того страдающем от выбоин, лопнувших труб и разбитых тротуаров. Итак, после «Лотарингии» придумали «Луару», а дальше объявили конкурс среди жителей Буэнос-Айреса. Конкурс, кстати сказать, со своими хитростями — название должно быть французское — еще бы! — и начинаться с «Ло». Изящно, не правда ли? На самом деле суть в том, чтобы название в газетном перечне стояло рядом с «Лотарингией», а не затерялось где-то в неприятельских кассах, — славно придумано? И тут все юные завсегдатаи, особенно те, что посещают Альянсу, стали ломать голову, повторять историю, географию и нумизматику de la Douce France[38] и после долгих раскопок добыли брильянт, весьма забавное прозвище, использовав «Луару», истинный tour de force[39] даже для знатоков, вроде меня, — я бы во веки веков не додумался до такой находки. Кому придет в голову назвать что-то лежащее на поверхности! Все равно, что назвать Сену. Ведь все стипендиаты подряд пишут работу о замках Луары. И вот, как я уже сказал, в перечне кинотеатров на «Ло» сперва идет «Лотарингия», затем «Луара», а дальше — словно у них сгорели все их конспекты по истории и географии, — «Лосуара», кентавр, составленный из головы «Лотарингии» и туловища «Луары». Но с реками или с кентаврами, надо признать, что с «великим живым» кинотеатры всегда переполнены, даже когда в четырехтысячный раз крутят «Броненосец Потемкин», этот доблестный, как говорит треклятый Чарли, марксистский броненосец, стреляющий из пушек по головам буржуазных кровопийц, причем не погибает ни один невинный ребенок. И, поскольку снобизму этих парней нет предела, их есть чем развлечь на минутку. Да что я говорю — постоянно, потому что каждый день появляется новая волна. Сперва итальянский неореализм, где неаполитанцы орут как на ярмарке, и это они считают высшим искусством, пока нам не надоест видеть в кадрах крупным планом Сорди или де Сику без пиджаков, и тогда мы возвращаемся к французскому кино, которое, надо признать, всегда остается дорогим нашему сердцу, и снова глотаем все пошлости Дювивье[40], которые знатокам этого кино представляются пределом утонченности. А насытившись французским — ведь никто не может вступить дважды в одну реку, — мы перебегаем к шведскому кино, и оно всегда имеет успех, потому как всем нам, кому больше, кому меньше, занятно смотреть, как на экране насилуют девственницу, особенно если это делает бандит, или еще лучше — бандит оказывается ее братом с непременными комплексами и метафизическими драмами, как сказал бы мэтр Сабато, так что наши парни полагают, будто в Швеции целый божий день предаются вышеуказанному занятию, и между кровосмешением и выкидышем у молодой одинокой женщины, когда fait accompli[41] обязывает прибегнуть, как говорится, к героическим средствам, наши олухи мечтают отправиться на эту родину разврата и уютненькой тюрьмы, а того не знают, pauvres enfants[42], что там солнца в глаза не увидишь и круглый год дрожишь от холода рядом с печкой, или на ней, а еще лучше в ней, и что именно по этой причине, когда появляется солнце, а это бывает точно 27 августа, справляют национальный праздник, и тут everybody[43] выходит из дому погреться на солнышке, даже симпатичный и демократичный король пользуется солнечным деньком, чтобы выехать за город, и Бергман снимает фильм с Моникой и совершаются всяческие суперизысканные сексуальные игры на лоне природы, в горах, на лугах и даже в садах самого королевского дворца. Но, разумеется, в этот единственный солнечный день. Так что если наш абориген угодит туда 28 августа, ему каюк, и он замерзнет решительно и бесповоротно.