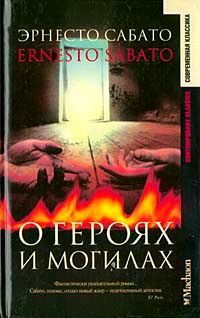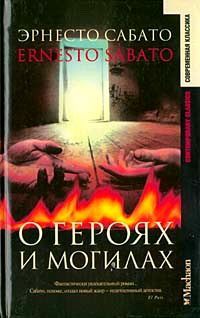Эрнесто Сабато - Аваддон-Губитель
Сильвина опять надрывалась от хохота. Умоляю, простонала она, я больше не играю. Так что Кике решил уходить, заметив только, что на эту тему он собирается послать сообщение в аргентинское Психоаналитическое общество, которое, прибавил он, ничуть не меньше Еврейского общества. И члены его и тут и там почти одни и те же.
Что сравнить с одиночеством в лифте перед зеркалом
(думал Бруно), перед этим молчаливым, но беспощадным исповедником, в этой мимолетной исповедальне десакрализованного мира, мира Пластмассы и Компьютера. Он представлял себе С., как тот безжалостно изучает свое лицо. На этом лице — медленно, но неумолимо — оставляли след чувства и страсти, привязанности и обиды, иллюзии и разочарования, многие смерти, которые он пережил или предчувствовал, осенние дни, нагонявшие тоску и уныние, любовные увлечения, очаровывавшие его, призраки, которые в снах или фантазиях посещали его и преследовали. В этих глазах, плакавших от боли, в этих глазах, закрывавшихся для сна, но также от стыда или от хитрости, в этих губах, сжимавшихся от упрямства, но также от жестокости, в этих бровях, хмурившихся от тревоги или поднимавшихся от вопросов или сомнений, в этих венах, вздувавшихся от гнева или чувственности, вычерчивалась подвижная географическая карта, которую душа изображает на деликатной и податливой плоти лица. Так он познает себя, познает свою судьбу (она ведь может существовать только воплощенной) через материю, которая одновременно и его тюрьма и его единственная возможность существования.
Да, вот он весь: лицо, в котором душа С. созерцает (страдая) Универсум, как осужденный на смерть глядит через решетку.
Он шел на кладбище Реколета
к чему эти дискуссии и конференции
все это — чудовищное недоразумение
этот кретин — как бишь его, — объяснявший религию прибавочной стоимостью
а как бы объяснил он то, что рабочие Нью-Йорка поддержали Никсона против бунтующих студентов
Сартр, терзаемый страстями и пороками,
но отстаивающий социальную справедливость
Рокантен с издевками над Самоучкой[52] и социалистическим гуманизмом!
Он сел на скамью.
На него смотрели. Какой-то парень что-то прошептал своей девушке, указав на него с ухмылкой, которую считал незаметной, но С. заметил ее, как птицы отличают человека просто гуляющего от охотящегося на них. С грустью он вспомнил время, когда сам был, как этот парень, когда мог пойти в парк читать книгу, и никто его не знал, не контролировал, не лез к нему в душу.
Сократ и Сартр — два урода. Оба ненавидящие свое тело, питающие отвращение к своей плоти, жаждущие мира кристально прозрачного и вечного. Кто способен придумать платонизм, как не тот, у кого кишки забиты дерьмом?
Мы создаем то, чего не имеем, чего страстно желаем.
Ладно, не все женщины — богачки, и не все богачки дуры, нечего подшучивать.
Есть студенты, много студентов, эти-то по-настоящему интересуются.
По-настоящему интересуются? Бросьте.
Надо решиться, замкнуться в пресловутой мастерской.
Но нет, нет! Это трусость, дезертирство из страха перед сволочами.
Негр из «Тошноты», в грязной комнатушке летом в Нью-Йорке. Спасен навеки вечной мелодией своего блюза. Вечность сквозь грязь. Он направился к кладбищу.
Вновь прочел надпись «Requiescant in расе»[53], как возвращаешься к витрине взглянуть на заворожившую тебя вещь, о которой, несмотря на цену, знаешь, что когда-нибудь должен будешь ее купить.
Он пошел вдоль ограды по улице Висенте-Лопес и остановился поглядеть внутрь какого-то двора: развешанное белье, бездомные собаки, грязные детишки. Под стать Р., подумал он. Жить в какой-нибудь из таких вот трущоб.
Вот что приснилось М. Заточенный в стеклянную бутылку и нащупывающий руками слабое место в этой прозрачной, но неподдающейся поверхности, шевелится гомункулус величиной сантиметров в двадцать, миниатюрная модель англичанина из североамериканского фильма: худощавый, в твидовой куртке и в котелке, какой увидишь только в Англии. В его движениях была какая-то угроза. Он метался из стороны в сторону, отчаянно, яростно, но вдруг застывал в неподвижности, глядя вверх, на наблюдавшую за ним М. И внезапно что-то выкрикнул, чего она, естественно, не могла услышать, ибо все происходило как в немом кино. Но она содрогнулась от этого ужасного, неслышного крика и выражения лица гомункулуса. «Жуткого» выражения лица, объясняла она.
Что она хочет сказать этим словом? Он задал такой вопрос, как бы умаляя значение сна, но с тревогой, которую пытался скрыть. Она не знает, не может объяснить. Единственное, в чем она уверена, — в жутком выражение его лица.
— Это был тот, о ком ты мне рассказывал: Патрисио. Я уверена, — прибавила она, глядя на него, словно чего-то ожидая.
— Да, да, я им займусь.
Но произнес он эти слова без убежденности — он не мог ей объяснить, какие силы связывают ему руки. Она знала только внешнюю сторону: сплетни, двусмысленные слухи и т. д. Она не знала, что за всем этим стоит сила коварнейшая и потому грозная.
Так шли месяцы. Пока М. не рассказала ему другой сон: Рикардо должен кого-то оперировать. Пациент лежит на столе, освещенный юпитерами операционного зала. Рикардо откинул с него простыню, и тогда стало видно, что он весь обмотан полосой ткани, как мумия. Рикардо сделал разрез в пыльной, истлевшей ткани, а затем на пергаментной коже, вдоль груди и живота, но не показалось ни капли крови. Вместо внутренностей там был огромный черный червь, сантиметров в тридцать длиной, заполнявший всю открытую полость, и он начал шевелиться и испускать из себя ложноножки, тотчас превращавшиеся в чрезвычайно подвижные конечности. В несколько секунд червь превратился в маленького черного чертенка, который прыгнул прямо в лицо М.
М. сказала, что, по ее мнению, это связано с Патрисио.
Сабато смущенно смотрел на нее — он знал о ее даре ясновидения, и в душу его закралась тревога.
Он подошел к бару «Штанга».
Усевшись за столик в углу, он принялся анализировать свою жизнь, не переставая думать, что на него смотрят, что претендуют на знакомство с ним (какой высокомерный и лживый глагол!), что люди следят за превратностями его жизни по интервью (следуя фантастической идее современного мира, будто можно узнать человека за час плохо записанной беседы). И все это совершенно бессмысленно. В душе он, как все, живет жизнью снов, тайных пороков, о которых мало кто знает, а то и вовсе никто не подозревает. В его подполье — гротескная сумятица, нагромождение греховных мыслей. На поверхности же — он посещает французское посольство, где учтиво изъясняются и выслушивают ложь и всяческие пошлости, которые следует говорить в посольствах: с любезными манерами, с пониманием и чуткостью. И хорошо еще, если ты вдобавок не блистал, не острил. Иначе потом, когда, ложась спать, снимаешь брюки, обязательно вспомнишь Кьеркегора, в такой же ситуации сказавшего: «Я подчинялся власти общества и, оставшись наедине в своей комнате, испытал желание пустить себе пулю в лоб».
И тут он увидел эту молодую пару.
Требование отчета
Он, как всегда, устроился в углу и оттуда наблюдал за двумя сидевшими за столиком у окна на авениду Кинтана. Девушку ему было хорошо видно, она сидела к нему лицом, и послеполуденный свет освещал ее. Но парня он видел со спины, хотя, когда тот поворачивал голову, можно было на мгновение увидеть его профиль.
Он встретил их здесь впервые. В этом он уверен, потому что лицо этой девушки было невозможно забыть. Почему? Сперва он сам не мог понять.
Коротко остриженная, волосы цвета темной бронзы, без блеска. Глаза вначале тоже показались темными, но потом стало видно, что они зеленоватые. Лицо худощавое, твердое, с коротким подбородком, губы кажутся припухлыми из-за торчащих передних зубов. В складке рта чувствовалось упорство человека, способного хранить тайну даже под пыткой. Лет ей, наверно, девятнадцать. Нет, двадцать. Она почти на разговаривала, больше слушала парня, устремив на него взгляд глубокий и отчужденный, делавший ее лицо необычным. Что было в этом взгляде? Кажется, глаза слегка косят, подумал он.
Нет, он ее никогда не видел. И однако было ощущение, будто видит что-то уже знакомое. Может, когда-нибудь встречал ее сестру? Или мать? Ощущение «дежа вю», как обычно, преследовавшее его, вызывало тревогу, лишь крепнущую от уверенности, что они говорят о нем. Противное это чувство одолевает только писателей, и только они могут его понять, думал он с горечью. Чтобы испытать этот вид тревоги, недостаточно быть известным (как актер или политик): надо непременно быть сочинителем художественной литературы, тогда ты замаран не только тем, в чем обвиняют известных деятелей, но и тем, что представляют собой или что возбуждают персонажи твоего романа.