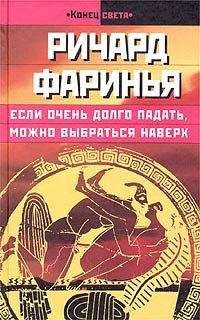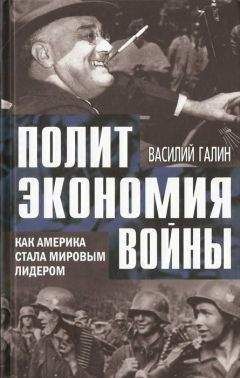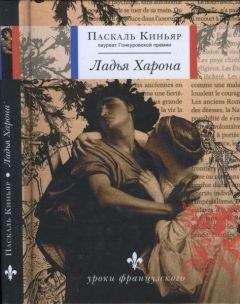Паскаль Киньяр - Салон в Вюртемберге
Флоран уже давно с умилением рассказывал мне об этой бесцеремонной манере – на мой взгляд, не такой уж неосознанной, как уверял Сенесе, – использовать ходячие выражения, искажая или вовсе выворачивая их наизнанку, притом с большим апломбом. И все же мне кажется, что она поступала так не нарочно: просто делала из своих невольных оговорок и ляпсусов орудие кокетства, хотя иногда ее высказывания звучали и впрямь довольно нелепо. Я глядел, как они уходят, сутулясь и тесно прижимаясь друг к другу под ледяным ветром. А ветер вдогонку облеплял ее ноги полами широкого синего плаща.
Изабель сама придумала себе уменьшительное имя – Ибель. Сенесе чаще всего звал ее именно так, иногда этим именем называла ее и Дельфина, Она вообще любила переименовывать все и всех на свете, и, честно говоря, эта мания надоедала, а то и обижала. Имена, которые мы носим, которые не выбирали, подобны коже, что растет вместе с нами, питаясь и наливаясь нашими соками. Мы рождаемся беззубыми, потом у нас появляются молочные зубы, потом они выпадают, – то же самое происходит с нашими волосами, с нашими усами и бородами, с нашими близкими, с иллюзиями. И только имена, они одни, остаются при нас до самой смерти. Впрочем, говорят, что и после нашей кончины они еще некоторое время витают в воздухе, напоминая об ушедших.
«Ну как поживают мои дорогие каледонцы?» – спрашивала она у своих родителей, когда звонила им из Сен-Жермен-ан-Лэ или когда они приезжали к ней в Пренуа; эта шутка – по-моему, крайне неудачная – означала, что они живут в Лон-ле-Сонье.[9] Вначале это уменьшительное – Ибель – постоянно напоминало мне имя Лизбет, и это сходство меня сильно коробило. Моя старшая сестра Элизабет жила в Кане и была замужем за другом нашего детства Ивоном Бюло, с которым мы встречались каждое лето на пляже Реньевилля, близ Кутанса. Лично я всегда считал нелепым и почти жестоким это намеренное искажение имен. Ребенком я недоумевал, почему меня зовут то Карлом, то Шарлем. Сестра Лизбет чаще всего звала меня Шарлем. Луиза, Цецилия и Маргарете – Карлом и даже просто Ка, да и Касилия переделала имя самой младшей сестры Маргарете в «Га» или «Марга», ко мне же обращалась не иначе как «майн Ка». Мать неизменно предпочитала имя Шарль. Я изобретал сложные ходы, стараясь понять, в какой момент мне выгоднее назваться Карлом, и мысленно составлял список преимуществ, которые можно было из этого навлечь. Но чаще всего я запутывался в своей, на самом деле нехитрой системе и «тонких» расчетах, объявляя себя Шарлем, когда нужен был Карл, и наоборот. Такая же нелепая и постоянная путаница происходила с Бергхеймами, которых было три – один во Франции, возле Верхнего Кенигсбура, в пятнадцати километрах от Кольмара, и два в Германии – на берегу Эрфта и на берегу Ягста. Это казалось мне дикой несуразицей. И выглядело тем более несправедливо, что самый маленький из них – хотя вряд ли самый безвестный – находился ближе всего к югу. В нем-то мы и жили. Не знаю, страдали ли мои сестры в той же мере, что и я, от искажения их имен. Мне трудно утверждать наверняка, но думаю, что Марге это не нравилось. Элизабет и Лизбет, Луиза и Люиза, Сесиль и Цецилия, Маргарете и Марга, Шарль и Карл – имена менялись очень легко, тем более легко, что смена имен объяснялась соглашением между мамой и папой, то есть устраивала окружающих, но не нас самих. Взяв перочинные ножички, мы вырезали свои имена на стволах старых буков и вязов – последние встречались крайне редко, – и ныне, вспоминая большой сад Бергхейма, я в первую очередь думаю не о деревьях, а о наших именах. Только не о буквах, процарапанных на коре, а о звуках, что составляли эти имена, произносимые чужими устами и оттого как бы материализованные, безжалостно врезанные в наши души и такие же реальные, как дыхание, вылетающее зимой изо рта белым облачком. Я до сих пор чувствую дискомфорт, стеснение при мысли об этом самоуправном и переменчивом «крещении». И еще мне иногда случается долго рассматривать какой-нибудь старый ствол – бука, вяза или дуба, – стоя в двадцати-тридцати шагах от него, со смутной уверенностью, что, вглядевшись хорошенько, я смогу увидеть… сам не знаю, что именно, – не лицо одной из сестер, и, уж конечно, не ее имя, и не фигуру, а нечто, возникающее из тайника, из-за куста, из-за угла старинного особняка, – совсем как в детстве при игре в прятки, когда все время кто-то чудится за деревом, где на самом деле никого нет (быть может, мои детские игры в прятки, или в веревочку, или в «найди предмет» перевоплотились в эти страницы?), и когда кричишь, топая ногой и призывая покинуть укрытие: «Эй, не жульничай! Я тебя видел! Давай выходи!» Мне и теперь кажется, будто я явственно вижу Маргу, Люизу, Цеци и Лизбет. И я кричу: «Выходи! Выходи!» Как будто можно вызвать из прошлого Изабель-Ибель, Дельфину или крошку Жюльетту. А впрочем, почему бы и нет, – нужно только долго-долго смотреть на самые толстые, самые мшистые деревья, окликая тех, кто давно уже мертв: Мадемуазель, Сенесе, Люизу, мою мать, Дидону или Понтия Пилата.
Все тонет в забвении. Моя жизнь, эти лица, эти короткие сценки – все безвозвратно тонет в забвении, если я не пишу. Я вытаскиваю на свет божий хоть какие-то краски, а иногда и их переливы. Но чаще всего это не мерцание и не аромат, а обрывки звуков. Неслышные, живущие внутри звуки. Все музыканты страдают этой болезнью – этой напастью, от которой не могут отделаться даже во сне. Стоит мне сосредоточиться, чтобы вспомнить дом в Сен-Жермен-ан-Лэ, как я слышу стрекотание швейной машинки мадемуазель Обье; вот так же неумолчное стрекотание цикад мгновенно вызывает у меня в памяти маленький домик в Борме. Своей любовью к музыке я обязан Люизе. Я до сих пор могу петь наизусть, целыми сборниками, сонатины Кулау и Клементи, которые она играла в возрасте одиннадцати-двенадцати лет, – мне же было в ту пору года три-четыре. Я тоже учился игре на пианино, наряду с виолончелью, вплоть до тринадцати лет. Это был «Erard» с корпусом желтого цвета. И лишь одно обстоятельство заставило меня бросить эти занятия, а именно шумное дребезжание медных розеток подсвечников в четыре свечи с их терпким, душным запахом расплавленного воска: в возрасте четырнадцати лет Люиза, ударившись в романтику, решила, что ноктюрны, «возвышенные» этюды или аппассионаты следует разыгрывать только при свечах. И решительно убрала лампу с учебного инструмента. Правда, мое воспоминание об этом событии зыбко и не очень надежно. Едва мне исполнилось двенадцать лет, как отец усадил меня за орган. И в том же году, по случаю дня рождения, мне купили первую «взрослую» виолончель: посредственную, но прочную «Markneukirchen» начала XIX века. Кстати, эта виолончель имела четыре маленьких колка, – они были удобны для настройки инструмента, но иногда вдруг «оживали» и начинали потрескивать или гнусаво вторить соседней струне, приводя меня в неистовую ярость. И вот таким образом я вдруг осознаю ошибку, которую совершал в течение всей своей жизни, а теперь допустил снова, – в чем, несомненно, являюсь прямым потомком героя Гриммельсхаузена, даром что Симплициссимус играл не на виолончели, а на волынке, желая напугать то, что его пугало. Я долго полагал, что страсть к виолончели и виоле да гамба[10] внушила мне великолепная коллекция виол, выставленных в Мерзебурге, вкупе с портретом самого герцога Мерзебургского, который несколько напоминал чертами лица нашу фройляйн Ютту. Но это было отнюдь не так: мои сестры уверяли, что к виолончели приобщил меня папа, и приобщил, по их выражению, истинно по-тевтонски. У Лизбет была скрипка, на которой она играла очень плохо; у Люизы – пианино, и она играла на нем превосходно; Цецилия играла на скрипке – настолько скверно, что ей перенастроили инструмент на квинту, ниже обычного, чтобы ее скрежет был не так слышен и чтобы она могла исполнять партию альта; зато Марга играла на скрипке великолепно и, кроме того, обладала в детстве чудесным голосом; я же с той минуты, как научился стоять на ногах и кое-как читать буквы и ноты, исступленно держался за свою виолончель-четвертушку. Думаю, что при таком положении вещей шестой ребенок, появись он на свет из чрева моей матери, был бы просто обречен, следом за мною, играть на второй виолончели и наверняка завершил бы эту свою карьеру, встав в отрочестве за контрабас. Так что я расстался с пианино отнюдь не по вине дребезжащих розеток. Мы охотно измышляем воспоминания или мифы, в которых выглядим самоотверженными героями. Владение вторым инструментом считалось обязательным, и я бренчал на фортепиано, подчиняясь этому правилу, а также нерушимой традиции, по которой все мужчины нашей семьи становились церковными органистами. Словом, выбор виолончели, не говоря уж о виоле да гамба, свершился и стал моим уделом – или хотя бы профессией – не по моей воле.
Я всегда обостренно воспринимаю речь каждого человека, этот сложнейший инструмент звукового соотношения между им самим и его семьей, местом обитания, социальным кругом, языком детских лет, – без сомнения, оттого, что провел первые годы жизни в семье, говорившей по-французски в маленьком немецком городке и, что хуже всего, сразу после войны. И конечно, именно этому единственному обстоятельству я обязан тем, что стал более внимательным слушателем, чем другие, более опытным экспертом по части мельчайших нюансов устной речи. Мадемуазель Обье изъяснялась устаревшим, цветистым языком. Стоило Дельфине влезть в тарелку пальчиками, как Мадемуазель раздраженно восклицала: «Ну вот, Дельфина, деточка, теперь вилка папаши Адама вся грязная!» – и, смочив салфетку водой из графина, обтирала ее крошечные ручки, как после рисования акварелью. Сенесе говорил изысканно и витиевато, не боясь впадать в педантизм. Более того, он специально уснащал свою речь неожиданными, редкими, грубоватыми, даже шокирующими оборотами и неизменно прерывал сам себя напыщенным вопросом: «Да можно ли эдак выражаться?» – с одной целью: проверить грамматические познания собеседника. Дельфина лепетала, как и положено ребенку – надоедливо, но очаровательно; язык Изабель был довольно эклектичным, словно она, – не желая смиряться с законами речи, подмешивала к ней то наивность, то провокацию, то высокомерие – и при этом неизменно поглядывала на нас с вызовом, настороженно, прикусив уголок нижней губы. «Ну конечно, – говорила она нам воскресными вечерами, разозленная необходимостью отъезда, а может быть, еще и обиженная тем, что мы недостаточно грустили по этому поводу, – конечно, вы-то здесь живете-поживаете, горя не знаете!»