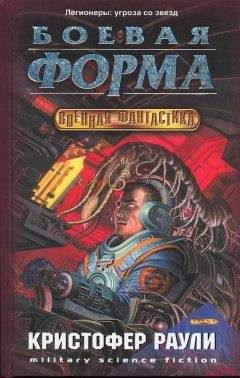Чезаре Павезе - Избранное
— Вот задача, — опять сказал Бородач, искоса глядя на Джинию, — можно подумать, что девственный профиль расплывчат.
Джиния спросила у Амелии, будет ли она позировать, и та громко сказала:
— Сегодня он заинтересовался тобой и теперь уж от тебя не отступится.
Они поговорили о том о сем, а потом Джиния спросила у Амелии, нельзя ли взглянуть на ее портреты, нарисованные в предыдущие дни.
Амелия встала, направилась в глубину комнаты, принесла оттуда папку, положила ее на колени Джинии и, раскрыв, сказала:
— Вот, смотри.
Джиния перевернула несколько листов, и на четвертом или пятом ее даже пот прошиб. Она не осмеливалась заговорить, чувствуя на себе взгляд серых глаз художника. Амелия тоже выжидательно смотрела на нее. Наконец она спросила:
— Ну что, нравится?
Джиния подняла голову, стараясь улыбнуться.
— Я тебя не узнаю, — сказала она.
Потом один за другим просмотрела все листы и мало-помалу успокоилась. Ведь, в конце концов, Амелия стояла перед ней одетая и смеялась.
Джиния сказала как дура:
— Это все он нарисовал?
Амелия, не поняв ее, громко ответила:
— Да уж, конечно, не я.
Когда Бородач кончил, Джинии захотелось опять закрыть глаза и подождать, как будто они еще не привыкли к освещению. Но Амелия подозвала ее, и, подойдя, Джиния в изумлении застыла перед большим листом. На нем было разбросано множество ее головок, одна какая-то кривая, иные с гримаской, которой она вовсе не делала, но волосы, щеки, ноздри были ее. Она посмотрела на смеющегося Бородача, и ей показалось, что теперь у него совсем другие глаза.
Потом Амелия начала выпрашивать деньги, повторяя, что час есть час и что они с Джинией работают не для развлечения, а для того, чтобы заработать на жизнь. Джиния, которая готова была ее исколотить, возразила, что пришла с ней случайно и вовсе не хочет отбивать у нее кусок хлеба. Бородач посмеялся сквозь зубы и сказал, что ему пора уходить.
— Пойдемте, я куплю вам мороженого и побегу.
IVНа следующее утро они снова пошли к нему вдвоем — на этот раз позировать должна была Амелия.
— Смотри не займи опять мое место, — сказала она Джинии. — Этот тип понял, что от тебя можно отделаться мороженым, и ему на руку, что ты, как он сам сказал, девственная.
Сегодня Джиния была уже не так довольна, как накануне, тем, что ее рисовали, и, едва проснувшись, подумала о своих портретах, оставшихся среди ню, нарисованных с Амелии, и о вчерашнем ужасном сердцебиении. Она таила слабую надежду выпросить у художника в подарок свои головки даже не для того, чтобы иметь их, а просто чтобы они не оставались там, в этой папке, в которую мог из любопытства заглянуть кто угодно. У нее не укладывалось в голове, что не кто иной, как Бородач, этот старый гриб, рисовал, стирал, затушевывал ноги, спину, живот, соски Амелии. Она не осмеливалась смотреть ей в лицо. Подумать только — серые глаза художника и его карандаш нацеливались на нее, примерялись к ней, обшаривали ее беззастенчивее, чем зеркало, а она спокойно выдерживала это и, может быть, даже вертелась и болтала.
— Я вам не помешаю сегодня? — спросила Джиния, когда они входили в подъезд.
— Послушай, — сказала Амелия, — ты хотела или нет посмотреть, как я позирую? Так о чем говорить? Связывайся после этого с маменькиными дочками.
В мастерской занавеси были раздвинуты и окна распахнуты, а пока они ждали Бородача, с лестницы вошла старуха служанка, чтобы присмотреть за ними. Джиния все гадала, куда Амелия станет или сядет, чтобы позировать, а Амелия уже спорила со старухой и заставила ее все-таки закрыть окна, потому что от утреннего воздуха в комнате было свежо. Старуха только что-то бурчала, и была она такая ветхая и замшелая, что Амелия смеялась ей в лицо.
Наконец вошел Бородач, на ходу натягивая блузу, и начал командовать, и мольберт перенесли в глубину мастерской где был диван-кровать, а все занавеси, кроме одной, задернули, чтобы свет падал только в этот угол. Джиния среди всей этой суматохи чувствовала себя лишней, и ей казалось, что даже старуха косо смотрит на нее.
Когда наконец старуха ушла, Амелия стала раздеваться возле дивана, а Джиния принялась следить за толстой рукой Бородача, который, стоя за мольбертом, угольным карандашом зачернял фон на белесоватой бумаге. Бородач, не глядя на Джинию сказал, чтобы она села, а потом что-то сказала Амелия. Джиния уставилась в окно на крыши, как будто она опять позировала, и подумала, что ведет себя глупо. Она сделала над собой усилие и обернулась.
Ее первой мыслью было, что Амелии, должно быть, холодно и что Бородач почти не смотрит на нее и что настоящее неудобство только в ней, Джинии, которая пришла сюда из любопытства. Смуглая Амелия казалась грязной, и на нее была жалко смотреть. Она сидела на диване, положив руки на спинку стула и спрятав в них лицо; хорошо было видно ее ногу от бедра до пятки, и весь бок, и подмышку.
Скоро Джинии стало скучно. Она смотрела, как Бородач стирает и переделывает нарисованное, видела, как он сосредоточенно морщит лоб, обменялась улыбкой с Амелией, но ей было скучно. Только когда Амелия встала, потягиваясь, и подобрала трусики, упавшие с дивана, у Джинии опять заколотилось сердце, но это было глупое волнение, которое она испытала бы, даже если бы они были одни, и которое было вызвано мыслью о том, что все мы одинаковые и что тот, кто видел голой Амелию, как бы видел и ее. Она начала ерзать на стуле.
Не поднимая головы, Амелия сказала ей:
— Чао, Джиния.
Этого было достаточно, чтобы обрадовать и успокоить ее. За минуту до того она заметила, что у Амелии красные полосы на лодыжках, и подумала, оказались ли бы и у нее, если бы ей пришлось раздеться, такие же следы от туфель. «У меня кожа лучше, моложе», — сказала она про себя. Потом спросила:
— Он тебя никогда не писал красками?
Ей ответил Бородач:
— Краски не штудируют. Они сами вливаются в окно вместе с солнцем. Здесь нет красок.
— Оно и понятно, — сказала Амелия, — вы слишком скупы. Краски дорого стоят.
— Замолчи, пожалуйста, — крикнул художник, — что ты в этом понимаешь! Ты даже не знаешь, что такое колорит — кроме вот этого дела ты вообще ничего не знаешь. Эта беленькая поумнее тебя.
Амелия только пожала плечами.
Потом откуда-то из-за крыш донесся гудок. Джиния начала прохаживаться по комнате и у окна нашла свои портреты, но не решилась попросить их. Перелистывая наброски, она опять увидела зарисовки с Амелии и стала потихоньку сравнивать их, спрашивая себя, неужели это Амелия принимала такие позы, точно на гимнастике. Возможно ли, что такой старик, как Бородач, еще развлекался тем, что рисовал девушек и изучал, как они сложены? Он, видно, чокнутый, думала она.
Они вышли из мастерской после полудня, и было приятно снова оказаться среди людей и идти по улице одетыми и любоваться яркими красками, которые, хоть и непонятно как, действительно исходили от солнца, раз ночью их не было. У Амелии тоже успокоились нервы, и она угостила Джинию аперитивом, а о художниках больше не было разговору.
Джиния долго раздумывала обо всем этом в тот день, лежа на своей тахте, да и в последующие дни тоже. В темноте она мысленно видела перед собой смуглый живот Амелии и ее равнодушное лицо и свисающие груди. Разве не интереснее рисовать одетую женщину? Если художники хотят, чтобы им позировали голыми, значит, у них другое на уме. Почему они не рисуют мужчин? Даже Амелия, когда так срамилась, становилась совсем другой, Джиния готова была расплакаться.
Но Амелии она ничего не говорила и только радовалась тому, что теперь та зарабатывает и охотнее ходит с ней в кино. Потом Амелия купила себе чулки и сделала прическу, и для Джинии опять стало большим удовольствием гулять с ней, потому что Амелия производила впечатление и многие оборачивались на них. Так прошло лето, и однажды вечером Амелия сказала:
— Твой Бородач уезжает в деревню на этюды и на виноград. Ну и хорошо, а то он начал мне действовать на нервы.
Как раз в этот вечер Амелия явилась с новой сумочкой, и Джиния спросила:
— Это он подарил тебе на прощание?
— Кто, этот жмот? — сказала Амелия. — Не смеши меня. Он норовил ничего не заплатить, вот и хотел, чтобы опять пришла ты.
Тут они поругались, потому что Амелия скрыла от нее это, и такого наговорили друг другу, что разошлись обиженные.
«Она нашла любовника, который делает ей подарки», — подумала Джиния, возвращаясь домой одна, и решила, что помирится с Амелией, только если та сама попросит ее.
Без особого желания, просто чтобы не скучать, Джиния попыталась восстановить отношения со старыми подругами. В конце концов, будущим летом ей исполнялось семнадцать лет, и ей уже казалось, что она такая же опытная, как Амелия. Особенно теперь, когда она не виделась с ней. В эти уже свежие вечера она пыталась перед Розой разыгрывать из себя Амелию. Смеялась ей в лицо и водила ее гулять, болтая о всякой всячине. Снова заговорила с ней о Пино. Но повести ее танцевать на холм она не решалась.