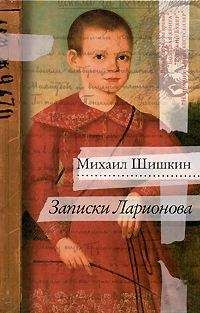Михаил Шишкин - Всех ожидает одна ночь. Записки Ларионова
Несколько раз проходила мимо. Потом не выдержала и поднялась. Только хотела вставить в замок ключ, как послышалось, будто за дверью кто-то ходит. Хотела уйти, но передумала и позвонила.
Значит, ты — дочка Дмитрия. Заходи, что ж ты стоишь. А мне Алеша говорит: «Мама, я Верочку мою повезу к морю, а ты пока у нас поживи. Мало ли что». Вот я и живу. Думаю, для кого это я, старая, так вырядилась, накрасилась, намазалась, рубины надела, коньяк поставила? Гостей ведь никаких не жду. И вдруг ты. Выпей, девочка, со старухой рюмочку, а то я все одна тут пью и вспоминаю. Алеша совсем еще маленьким был, я ему: «Ешь, сыночек, колбаску!» Он ни в какую. Тогда говорю: «А хочешь, сделаю мальтийский крест?» Разрезала колбасу по краям да поджарила. Съел и еще попросил. «Мальтийский крест! — кричит. — Мальтийский крест!» Я ему говорю: «Чудик ты у меня, Алешка! Не колбасу ешь, а слова». Какая ты счастливая, девочка. Еще не знаешь, что ты — это я. Не понимаешь? И не надо. Все равно не поймешь. А когда поймешь, меня уже не будет, ни кожи моей, ни волос, ни глаз, ни кишок. А от косточек одних какой прок?
Проснулась, подумала, что дождь, а это голуби по жестяному карнизу.
Бедная Мирра Александровна придумала, что я без нее не могу ни шагу ступить. Вот и мучает и себя, и меня. А на самом деле это она беспомощна, а не я. Для того, чтобы ориентироваться в так называемом видимом пространстве, совсем не обязательно видеть. И, уверяю, любой слепой ориентируется не хуже вас, Евгения Дмитриевна. Это ведь не главное, а так, пустяки. Намного проще, чем вы думаете. Ведь нет ни одной одинаково звучащей двери или одинаково пахнущего помещения. Поверьте, достаточно любого шороха, скрипа половицы, покашливания, чтобы узнать размеры комнаты, если чужая, и есть ли кто в ней, если своя. Пустое и наполненное пространство по-разному звучит. Приближение к предметам легко узнать по обратному току воздуха к лицу, так что совершенно невозможно наткнуться на стену или закрытую дверь. Я вам, Евгения Дмитриевна, сразу определю даже такую малость: пыль в комнате или чистота. Хотите, расскажу все, что вы сейчас видите? Всего-то нужно пощелкать пальцами. Извольте — шторы задернуты. Лампа над вашей кроватью горит — достаточно протянуть руку, чтобы почувствовать, как оттуда идет тепло. На столе — свежая газета, цветы. Здесь — неубранная постель. Вот отсюда чудесно пахнет духами, одеколоном, помадой. Вы уже в юбке, но еще без блузки. Опрометчиво, Евгения Дмитриевна, переодеваться в присутствии слепого.
Что с вами случилось, любезный Алексей Павлович, я вас не узнаю. Где же ваша осторожность, предусмотрительность? Разве можно совершать столь необдуманные и рискованные поступки? Только чудом ваше послание не попало к отцу, ведь он всегда берет почту. И лишь сегодня, будто почуяв, ни с того ни с сего я проснулась чуть свет и еще долго лежала, прислушиваясь к ходикам, глядя на то, как они скачут на своей ножке к шкафу и все не могут доскакать. Потом какая-то неосознанная тревога, какая-то необъяснимая сила заставила меня встать, одеться и спуститься за почтой. На ступеньках в подъезде еще не растаяли ошметки снега — это наследил почтальон. Открываю ящик. Там папины «Ведомости», какие-то рекламки, и вдруг на пол слетает Ласточкино гнездо. Адрес печатными буквами, чтобы не узнать почерк, а вместо текста — погашенная штемпелем пустота. Думала, захлебнусь от счастья, но с ужасом почувствовала, что никакого счастья нет, наоборот, в этой пустой открытке есть что-то унизительное, и люблю вас совсем по-другому. Положила обратно и газету, и рекламные письма, а ваше гнездышко сломала пополам, спрятала в карман и вернулась. Все уже встали. Кажется, писала вам раньше про слепца и его мамашу, мечтающих о консерватории. У них в приюте, оказывается, любимой игрой были городки. Один ставит фигуру, хлопает в ладоши и отбегает, а другой бросает биту. Помните ли вы чучело амурской кошки в кабинете отца? Рома ощупал его и сказал, что это белка. На улице оставила его на минутку, чтобы купить мороженое, возвращаюсь, а он все это время говорил со мной — из-за уличного шума не понял, что стоял один. Просил, чтобы я научила его играть в шахматы, но никак не мог запомнить позицию, все бегал пальцами по фигурам. Не оказалось на серванте ножниц, так он закатил матери скандал. Мика ко мне, просит класть все на то место, где лежало, а я объясняю, что случайное расположение вещей в день их приезда вовсе не есть порядок. Прихожу домой и запираюсь у себя, только бы не видеть его. Невыносимо, как он трет без конца кулаком слипшиеся веки, как выковыривает зубочисткой какие-то козявки и слизывает их. В уборную после него можно входить только с горящей спичкой. Мика принесла нам билеты в театр. При этом засмеялась, обращаясь к отцу: «Каждая женщина — это немножко Травиата, не правда ли?» Я прособиралась полдня, и уже нужно было выходить, а все еще не была готова. Рома, прилизанный, в сверкающих ботинках, пахнущий папиным одеколоном, сидел в коридоре у дверей. Мика каждую минуту заглядывала: «Женечка, давай я тебе помогу! Женечка, пожалуйста, лучше прийти пораньше и там посидеть! Женечка, ну сколько можно, уже пора! Женечка, я тебя прошу!» Я была уже готова, но тут лопнула нитка кораллов, и каменные ягоды поскакали по паркету. Мика замахала руками: «Женечка, иди так, я соберу!» Я взбесилась: «Как это иди так! Я не могу идти так! Я никуда не пойду так!» Надела лиловое, которое вы любите или, может, просто сказали и сами не заметили, а я вот теперь все время его ношу. Вышли, когда уже было ясно, что опоздаем. Я сказала: «Ничего страшного, подумаешь, придем ко второму действию. Прогуляемся, спешить все равно некуда. Если Альфред споет свою арию без нас, он ведь от этого на ней не женится». Рома молчал, не хотел со мной разговаривать. После дождя всюду были лужи, каждую нужно обходить или перешагивать. Простое «осторожно, здесь лужа» ни о чем не говорило, и несколько раз Рома шагнул прямо в грязь, обрызгав и себя, и меня. Шел бледный, злой и не произнес за всю дорогу ни слова, а я болтала без умолку. Он снова ступил в лужу, остановился и заявил, что в таком виде никуда не пойдет.
Я ему: «Не говори ерунды». Он уперся. Я не выдержала: «Да какая тебе-то разница, в каком виде идти!» Рома весь затрясся, повернулся и пошел домой. Я за ним. Так молча вернулись. Мика сделала вид, будто ничего не произошло, будто все так и надо, только не смотрела в мою сторону. Еще забыла сказать, что была у вашей матушки. Она рассказывала про вас, каким были в детстве. Так и вижу, как прибегает заплаканный мальчик, не к ней, а ко мне, и рассказывает, что там злые мальчишки ловят птенцов, продевают им в глаза прут и бегают с этими трепыхающимися гирляндами, хвастаясь, у кого больше.