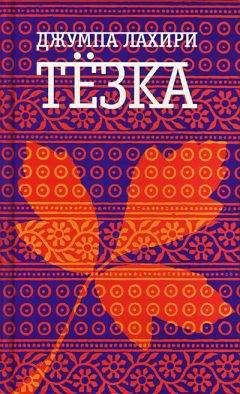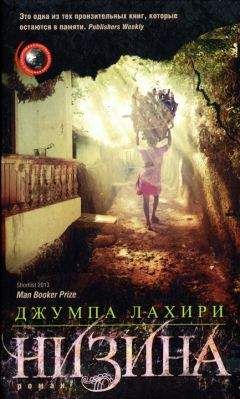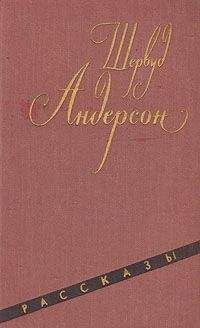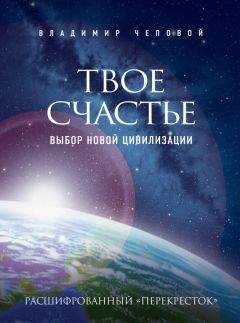Джумпа Лахири - На новой земле
— Ладно, не говори ничего сейчас, — сказал он, видя ее смятение и нежно привлекая ее к себе. — Сначала поезжай в Индию, обдумай все хорошенько. Я подожду.
Она отстранилась, и в первый раз его объятия стали ей неприятны.
— Слишком поздно что-то менять, Каушик.
Он протянул руку и пальцем повернул ее лицо к себе, и она взглянула в его усталые глаза, которые успела полюбить. Его лицо горело внутренним жаром — если не любовью, то уж точно сильным влечением, и она поняла, что он говорит искренне и что его предложение серьезно.
— Станет поздно лишь через несколько недель. Еще есть время.
Он взял ее за руку, и они продолжили спускаться вниз по улице. Маленькая площадь, на которую они вышли, была заполнена детьми в возрасте от восьми до десяти лет, как будто занятия в школе разом закончились. Хема глядела на оживленные, раскрасневшиеся маленькие лица с тоскливой ностальгией. Она сама была не сильно старше, когда впервые влюбилась в Каушика. И хотя ее мечта сбылась почти через тридцать лет и те поцелуи, о которых она мечтала в детстве, наконец-то стали реальностью, воспоминания о том безответном юношеском увлечении то преследовали, то, наоборот, успокаивали ее. Итальянские дети кричали «Buona Natale!», «Счастливого Рождества!», дурачась, обнимали и целовали друг друга, и их невинная радость была так заразительна, что ей самой тоже захотелось прыгать и кричать вместе с ними. А ведь пройдет лет десять, и эти девочки и мальчики начнут влюбляться друг в друга, переженятся, а еще лет через пять их собственные дети будут играть на этой же площади.
На полпути в Рим из Вольтерры на землю опустилась темнота, и, глядя в черный проем окна, Хема объяснила Каушику, почему они не могут быть вместе. Дело даже не в Навине, сказала она, просто нечестно просить ее бросить жизнь к его ногам и слепо последовать за ним. Она не может на это пойти, как не может просить его изменить свою жизнь в угоду ей. Слишком поздно им меняться, если один из них пожертвует собой, в будущем это неизбежно приведет к ссорам и непониманию.
— Но ведь мы сможем иногда видеться с тобой, разве нет? — сказала она робко, боясь предложить ему это, еще больше пугаясь, что он может отвергнуть его.
— Я не люблю строить планы на будущее, — ответил Каушик ледяным тоном, сразу напомнив ей детство. Больше он ничего не сказал за все время поездки, пока не остановил машину около дома Джованны. А затем повернулся к ней лицом и произнес еще более резким голосом: — Я так и думал, что ты струсишь.
Хема заплакала, униженная, понимая, что сожгла все мосты и что он никогда не простит ее за отказ. Даже если сейчас она переменит свое решение и будет умолять его взять ее с собой, это уже не поможет. И все же, все же, что ей было делать? Он ведь не предложил жениться на ней, фактически вообще ничего не предложил — как это эгоистично и как по-мужски! Она плакала, а он сидел рядом с ней, сложив руки на груди, холодный, как ледяная гора. Ее слезы его не тронули, так он, должно быть, делал все эти ужасные фотографии, таким он был в то утро, когда показывал ей лесные могилы, запорошенные снегом, — ему просто нечего было больше сказать ей. Поняв, наконец, что он ждет, когда она освободит машину, Хема вытерла слезы и вышла, не попрощавшись. Свою последнюю в Италии ночь она провела одна, уже не ожидая получить от него весточки. Однако наутро он позвонил ей и предложил отвезти в аэропорт.
Когда они добрались до Фьюмичино, он проводил ее до стойки регистрации, помог поставить чемодан на бегущую ленту конвейера, легонько поцеловал в губы. А потом он быстро ушел, оставив ее вытирать слезы в одиночестве, снимать обувь перед металлоискателем, вытряхивать из карманов хорошенькие итальянские монетки, которые вскоре утратят свою покупательную способность и превратятся в сувениры. Она прошла через паспортный контроль, села на аэроэкспресс, сквозь слезы глядя в окно на скопище разномастных самолетов. В зале ожидания, наполненном в основном индусами, она ни с кем не общалась, сидела одна, листая модный журнал, пока не объявили посадку.
И только по дороге в самолет Хема обнаружила пропажу. Ее браслет, любимый золотой браслет, подаренный бабушкой, за который Каушик впервые потянул ее к себе, пропал! Ну конечно, она сняла его перед металлоискателем, а потом забыла надеть. Мысленным зрением она отчетливо увидела его — забытый на сером пластиковом подносе. Хема повернулась и слепо бросилась назад к хорошенькой стюардессе, деловито отрывающей посадочные талоны.
— Все пассажиры уже сидят в самолете, — сказала ей стюардесса по-английски. — Самолет готов к взлету.
— Но я потеряла ценную вещь! — умоляюще воскликнула Хема. — Драгоценность.
Девушка вскинула на Хему заинтересованные глаза.
— Какую драгоценность?
— Золотой браслет. — Хема невольно схватилась за голое запястье.
— Хотите, чтобы мы проверили, нет ли его в зале ожидания?
— Нет, я сняла его во время досмотра… Я проходила его еще утром, и, должно быть, оставила его там.
Женщина покачала головой:
— К сожалению, у нас нет возможности сейчас связаться со службой безопасности. Но мы можем послать им сообщение, хотите?
Опустив голову, Хема пошла обратно в самолет, полная тяжелых предчувствий. Конечно, через пару недель на ее руках будет красоваться двадцать золотых свадебных браслетов, но сейчас она чувствовала себя так, как будто потеряла часть себя. Мама всегда говорила, что терять золото — недобрый знак, и, когда самолет шел на взлет, ее не оставляла мысль, что вот-вот с ними случится авария. Однако они взлетели без всяких происшествий, и вот уже на маленьком экране перед ее креслом появилась карта мира, показывавшая их путь, нарисованный широкой белой полосой, от Рима до Калькутты, единственный путь, свернуть с которого она уже не могла.
В этом месте он не знал никого — в маленьком курорте к северу от Као-Лак, где Каушик снял однокомнатное бунгало с плетеной крышей, стоящее на сваях. Он жил на берегу моря лишь три дня, но уже чувствовал, как опьяняющая лень засасывает его в свою уютную трясину. Утром он выползал из кровати, завтракал фруктами и клейкими булочками, которые подавали в местном ресторане, а потом растягивался на горячем песке, просматривая старые номера журнала, в котором ему предстояло начать работу. Чаще всего через несколько минут глаза его начинали слипаться, и он дремал до обеда. Он перестал бриться, и его лицо покрылось неровной черной щетиной. Еда, которую подавали в ресторане, слегка напоминала индийскую: горячий рис, густое карри, в которое повара бросали целые желтые и зеленые перцы. Обычно Каушик не испытывал любви к индийской кухне — слишком много разнообразных кулинарных шедевров он попробовал за свою жизнь, — но эти кушанья почему-то настроили его на сентиментальный лад. Соринка в глазу мешала жить, раздражала немилосердно, когда он, забывшись, снимал темные очки и взглядывал на оглушающе яркую белизну пляжа неприкрытыми глазами.
Пляж выходил на запад, так что каждый вечер он заказывал в ресторане пиво и провожал садящееся над морем солнце. Вода была теплая, как парное молоко, но он предпочитал купаться в бассейне. Когда-то давно с ним произошел неприятный случай: подводное течение чуть не затянуло его на глубину. Он тогда забил руками и ногами, нахлебался соленой воды, и, если бы стоящий рядом купальщик не протянул ему руку, вполне мог бы отправиться к праотцам. После этого он разлюбил океан, хотя мама, если бы узнала об этом, наверняка презрительно фыркнула бы. Она обожала воду так сильно, что, наверное, с удовольствием плавала бы даже в пруду, заросшем тиной и водорослями. У кромки пляжа росла шеренга каучуковых деревьев, а за Андаманским морем лежал Бенгальский залив, а за ним Калькутта, где сейчас находилась Хема.
Злость на Хему и обида, что она посмела ему отказать, утихли только в самолете, и теперь он испытывал только тоску по ней. Он сумрачно раздумывал о том, что он сделал не так, может быть, ему стоило обсудить с ней их будущее раньше? Может быть, она подумала, что он говорит неискренне, что безответственно бросается словами? Он сожалел, что так грубо разговаривал с ней в машине и что не сказал Хеме главного: что за время их короткого романа она стала ему очень дорога, что она была единственной женщиной, с которой ему захотелось связать свою жизнь. Как жаль потерять ее вот так, толком не обретя, но делить ее с другим мужчиной он не хотел. Не мог. В тот последний день в Вольтерре ему надо было сказать ей об этом, а он вместо этого надулся, как мышь на крупу, и вообще вел себя как полный идиот. И еще посмел обвинить ее в трусости! Хема, в отличие от Франки, не обвинила в трусости его самого, не указала на то, что его собственная боязнь привязанности, что к человеку, что к месту, переходит за грань патологической. Однако то, что она не встала с ним на одну доску и не начала перепалку, почему-то заставляло его чувствовать себя еще более отвратительно.