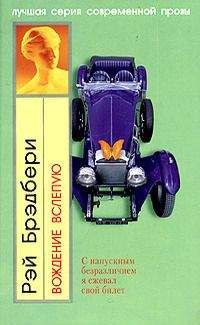Малькольм Брэдбери - Профессор Криминале
«Но вы-то ошибаетесь публично, — возразил я. — Вы философ, вас читают, верят вам». «Я написал большие книги, верно, что-то сделал в философии, еще, как вам известно, сочинял романы, — произнес он. — Ну и что теперь? Не стану же я рвать их оттого, что, глянув на часы, увидел — они показывают не то время. Все книги таковы. Знаете, если бы мои интимные дела сложились хоть чуть-чуть иначе, в пятьдесят шестом году я перебрался бы на Запад. А потом в Америку и там писал бы те же книжки. Тогда вы говорили б о предательстве? Вы ставили бы под сомнение слова? Я совершил ошибку, разделенную со мною миллионами. На том и порешим, и возвращаться к этому не будем. Это не предательство». «Вы не просто недопоняли историю, — сказал я. — А Ирини?» «Ну, позвольте вам заметить — так как вы, конечно, ничего не знаете об этом, — что иногда — а может быть, всегда — любовь и дружба делаются невозможны. Если бы вы сорок лет вели двойную жизнь, то поняли б меня».
«Двойную жизнь?» «Конечно, — подтвердил он. — В тогдашней нашей жизни нормой была ложь. Неверная эмоция, неверный жест — и все, вы выдали себя. Но если вы умели лгать, если публично вы режим поддерживали, в частной жизни вам разрешали думать по-другому. Если вы им позволяли пользоваться вашей репутацией, то вас в полицию не вызывали. Если вы отстаивали их историю, они вас не преследовали за вашу иронию. У нас была культура циников, мы были подлы и продажны, но такой был уговор. Эти люди питали слабость к грандиозным политическим идеям, им нравилась Утопия, им нравилась тотальность. Пролетарская революция — с ума можно сойти! Я вел более возвышенную жизнь, я был лучше. Но цинизм проникает всюду, даже и в любовь». «И в философию», — заметил я. «Возможно, — согласился он. — А, вот вы что хотите от меня услышать. Осуждение моей работы, порочной, как мой мир. Нет, не согласен. Полагаю, опыт жизни в скверном мире тоже стимулирует раздумья».
«Мне пора, — сказал я, поднимаясь. — У меня на самом деле интервью». «Нет, подождите. — Он взял меня под руку. — Уж слишком вы легко хотите ускользнуть. Я объясню насчет предательства. Все мы предаем друг друга. Иногда со зла или от страха. Иногда от равнодушия, порой из-за любви. Случается, ради идеи или политической необходимости. Бывает, просто не найдя весомой нравственной причины этого не сделать. Сами вы не такой?» «Надеюсь, нет», — ответил я. «Вы не согласны, что сейчас кругом одни предательства? Что снова наступили времена «j’accuse[9], j’accuse». «Что-что?» — не понял я. «J’accuse, отец со мною был жесток, я был не нужен матери. J’accuse, он посягал на мою сексуальную свободу, делал мне намеки. J’accuse, я его любовница, и он мне должен целое состояние». Съездите в Америку. Триста миллионов голых «эго», все с претензиями. Даже знаменитым и богатым нравится быть жертвами. То, что с ними вытворяли их родители, это кошмар какой-то, у них вообще могла бы не задаться жизнь. Нет, Ницше прав: на рубеже эпох предательство повсюду. Чтобы стать героями наставшей, мы должны покончить с прошлой. Еще он говорил, что каждый раз, когда мы пробуем творить самих себя, наше одиночество лишь возрастает. Поэтому моя история, быть может, и не столь уж далека от вашей».
Но это было бы слишком просто. «Прошлое должно ответить, — сказал я. — В вашей истории творились подлинные преступления». «Да, несправедливости творились, — отозвался Криминале, — а сейчас? Вы говорите, что вы представитель мира массовой информации». «Уже не так, — ответил я. — Обнаружилось, что я скорее человек вербальный, чем визуальный». «Я не об этом, — сказал он. — А о том, что вы живете в эпоху средств массовой информации, в эпоху симуляции, как все здесь выражаются. В эпоху, когда нет идеологии, одна гиперреальность. Побывайте-ка в Нью-Йорке, в этом Бейруте западного мира. На улицах полно грабителей и террористов, женщины от злости бесятся, живут все для себя. Вы сидите в изумительных апартаментах с дивными картинами на стенах где-то наверху, в то время как внизу, на улице, кого-то убивают из-за наркотиков и наслаждений. Реального и слишком мало, и одновременно слишком много. Повсюду дикие фантазии, все жаждут сильнодействующих иллюзий. Жизнь — кино, развязка — смерть, истории все нереальны. Даже философы мыслят в отрыве от реальности, они описывают мир, в котором нет таких понятий, как нравственность, гуманизм, индивидуальность. Я знаю, что моя эпоха была безнравственной. А ваша?» «Помните вашу размолвку с Хайдеггером?» — отозвался я. «И что же?» «Вы сказали, что его ошибка заключалась в убеждении, будто мысль может быть выше истории и оставаться чистой. Ну а если нет, то что тогда?» «Конечно, если вы предпочитаете так думать, мысль продажна, и ни один из нас не прав, — ответил Криминале. — Тогда, конечно, нет нравственности, нет ничего реального, нет философий, мифов, нет искусства. Мир пуст, как утверждает кое-кто, повсюду хаос, произвол. Нас как личностей не существует, мы начинаем все с самого начала, с нуля. Нет Криминале, не на кого возлагать вину, вообще нет никого. Но это ваши трудности, а не мои. Простите, мне пора идти, я потерял свой багаж. Но зато я повстречался с этой милой русской, которой нравится ходить со мной по магазинам. Ну, как говорят, до встречи». Он встал, надел пиджак и двинулся извилистой тропинкой через заросли. Я презирал его и восхищался им. Я ненавидел его и любил. Я был и оскорблен, и очарован. Когда он говорил, мне по-прежнему хотелось слушать.
Побеседовать мне больше с ним не довелось. Вечером он был на семинарском ужине. Прогулка по магазинам ему явно удалась. На нем был легкий, очень дорогой костюм с иголочки, изысканная новая рубашка, новые же золотые запонки. Несмотря на наш с ним разговор, а может быть, благодаря ему — или благодаря общению с русской — Криминале пребывал в отличном настроении. Он вновь обрел былую форму, русская сидела за столом с ним рядом, касаясь иногда его руки. Я прошел мимо них, направляясь к угловому столику. «В России слишком толстые кондомы, вот беда, — сказал он. — Вам необходима экстренная помощь Запада». Потом я видел, как он говорил и говорил, по своему обыкновению, конечно, перепархивая от Платона к Грамши и от Фрейда к Фукуяме. Почтительные сотрапезники внимали, как всегда, безмолвно. Больше я его не видел.
Справившись у портье, я узнал, что вещи Криминале еще не нашлись. Понятно было, что скоро он не уедет, материала я уже набрал достаточно, а избегать его в дальнейшем было невозможно. Рассудив так, я в то же утро покинул Шлоссбург и улетел домой. Я накропал свою статейку, она вышла в приложении про По-Мо, и потому в то лето в коттеджах Прованса все болтали о постмодернизме. Потом я вновь задумался, не написать ли мне о Криминале. Я пообещал хранить молчание, но теперь я думал не о нем одном. Беседа в Шлоссбурге наполовину изменила мои взгляды. Он сказал мне, что его история, возможно, не столь отлична от моей, хотя его, похоже, завершалась примерно там, где моя только начиналась; вот об этом я и размышлял.
История же Басло Криминале завершилась приблизительно через неделю после окончания Шлоссбургского семинара. Так как он, вернувшись в Санта-Барбару, штат Калифорния, погиб. Его сбил велосипедист в шлеме и в наушниках «Сони уокмен», который был, как видно, так заворожен какой-то кульминацией оргазма на вновь вышедшем хите Мадонны, что не заметил великого философа, рассеянно шагавшего тропинкой по зеленой университетской территории. Край шлема этого парнишки угодил философу в висок; его доставили в прекрасную больницу, но в сознание он так и не пришел. Лучшее, что можно здесь сказать, — что он скончался с карточкой на лацкане, — поскольку он, конечно же, участвовал в работе конференции на тему «Есть ли у философии будущее?», которая тотчас прервала свою работу, отдавая дань уважения покойному великому мыслителю.
Некрологи вам, наверное, запомнились — обстоятельные и, как правило, весьма почтительные. Путаница, окружавшая его обычно, сохранилась; называлось несколько различных дат и мест рождения, давались очень противоречивые объяснения его карьеры, славы, политических воззрений, идеологической позиции. Была отмечена его широкая известность, много было сказано о значимости сделанного им в литературе. О философии — поменьше: что она была одновременно прогрессивной и туманной. «Король философов умер, кто же теперь король?» — вопрошал заголовок статьи, посвященной преемству. Очень мало сообщалось о личной его жизни — только в самом общем виде. И нигде не выражалась прямо мысль о «глиняных ногах». И все же тон был осторожным, словно худшее еще могло открыться.
Некто, знавший его лучше прочих, написал статью, которую опубликовала лондонская «Таймс». «Родился он в Болгарии, имел австрийский паспорт, счет в швейцарском банке, но, возможно, не был предан ни одной из стран. (Остро, подумал я.) Без сомнения, он был крупнейшим из ведущих европейских философов послевоенного времени, но временами не без слабостей. Он был гениальным мыслителем и охотником за женщинами. Он был многими любим за обаяние и представительность и заводил друзей в верхах повсюду в мире; дружбу с ними он порой эксплуатировал обычнейшим для жителей Центральной Европы образом, но знавшие его близко умели забывать такие вещи и прощать. Однажды он дал знаменитое определение философии как «формы иронии», и это качество мы будем и дальше находить в его трудах, которым, вероятно, суждено бессмертие». То были единственные реальные намеки — ежели это действительно были намеки — на грядущую беду. Тем не менее в нескольких американских газетенках проскользнули слухи, будто его гибель не была случайной, будто бы он стал помехой для восточно-европейских реакционных сил. Но, как известно, мы живем во времена теорий заговоров, кое-кто предпочитает думать, что все всегда — не то, что оно есть, а заговор каких-то внешних сил.