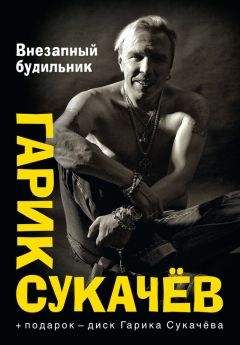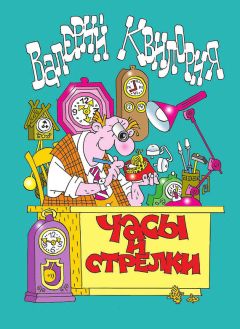Сергей Говорухин - Прозрачные леса под Люксембургом (сборник)
Я ни о чем не думал сейчас, понимая, что осмысление придет позже. С финалом музыки. Все это время мне хотелось одного: чтобы она не кончалась…
Кто-то опустил мне руку на плечо. Я накрыл ее своей рукой, почувствовав тепло знакомой ребячьей ладошки.
– Что это было, Фредерика? – завороженно спросил я.
– Пьяццолла. «Забвение».
– Словно целая жизнь…
– Твоя жизнь. Он играл специально для тебя.
– Кто?
– Органист. Пойдем, поставим свечи.
Мы поставили сорок шесть свечей в маленьких алюминиевых плошках.
Тридцать семь – я. И девять – Фредерика.
– «Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада»[18]… – прочла Фредерика. – Кораблик негасимый – это вечный огонь?
– Не знаю, – пожал я плечами.
– Мы должны отпустить их от себя. Ты – своих, я – своих. Там, где они сейчас, они счастливее нас. Там спокойно.
– А кто сказал, что они искали покоя?
Тридцать семь свечей – тридцать семь моих товарищей, ушедших до срока.
А те, чьих имен я так и не узнал… Кто поставит им свечи в костелах Люксембурга, по улицам которого неслышно ступает Господь?..
Свечи горели холодным бесстрастным пламенем в сумеречной нише костела, и казалось, что они уплывают в вечность. Девять ее и тридцать семь моих…
Свечи горели холодным бесстрастным пламенем, и за каждой свечой была своя жизнь: яркая, обжигающая, не разгоревшаяся, оборванная раньше или позже…
И перед каждой из этих жизней я ощущал чувство персональной, до конца не осознанной вины. Вот только избавить от этой вины меня уже было некому. Да и вина ли это? Цепь незначительных подробностей, досужих бытовых мелочей, которым мы не придаем значения до тех пор, пока они не становятся необратимыми.
…Бытовые мелочи аккуратно ложились на дно Геркиного чемодана, и, глядя на растущие штабеля рубашек, я спросил:
– Ты что, серьезно?
– Серьезно, – отвечал он. – Я уже продал квартиру. Осталось собрать вещи.
– Как продал? – бессильно опустил руки я.
– Ты не помнишь, сколько раз мы виделись в этом году? Кому я здесь нужен? Тебе?
Он с силой толкнул крышку чемодана.
– Но почему Шумиха? И где она, эта Шумиха? У тебя же там никого…
– Нет – и не надо. Хуже, когда мы есть только для того, чтобы встречаться на очередных похоронах. А квартира… Хрен с ней, с квартирой. Сын у меня Ваня умирает…
– Я не знал…
– А что мы вообще знаем друг о друге…
Четыре месяца спустя Геркин сын умер от рака – деньги, вырученные за квартиру, уже ничего не могли изменить в его судьбе.
Мы, как и прежде, собирались по большим праздникам, пили, перебивали друг друга, произносили дежурные, давно никого не трогающие тосты, недоумевали над Геркиным решением: как он там один в этой чертовой Шумихе, где все надо начинать с чистого листа. И зачем было квартиру продавать – неужели не скинулись бы, не нашли деньги сыну на лечение.
А он и уехал от всех нас, освоившихся, подернутых глянцем благополучия, обросших требовательными женами и позабывших, как нас расстреливали со склонов Кандагара и в вязи поднимаемой рикошетами пыли мы кричали товарищу охрипшими голосами:
– Брось мне рожок! Я пустой!
И не было на свете ничего дороже тридцати промасленных патронов в глухом пенале автоматного магазина.
Редко, стараясь не надоедать лишний раз, он предлагал:
– Может, встретимся, посидим. Я тут одну кафешку знаю…
– Конечно, – буднично отвечал я. – В понедельник созвонимся и пересечемся где-нибудь…
Только этих понедельников в году было больше пятидесяти… И не хотели они размениваться на совместно распитую бутылку в захолустной Геркиной кафешке. О чем говорить-то? Жизнь слишком диаметрально развела нас по разным ступеням социальной лестницы. И какое имело значение все, что было до этого…
Два года назад он приехал на День Победы. Восьмое мая провел с внуком в зоопарке, по-детски хохоча над гримасничаньем обезьян и вальяжностью напыщенной пумы, а вечером, прикалывая награды к пиджаку, неожиданно обмяк и странно, боком завалившись на диван, уронил и разжал руку в уже безжизненном движении…
И, словно последним посланием всем нам, тяжело лег на пол орден Красной Звезды – самое дорогое, что оставалось в его жизни.
Почему именно здесь, в Люксембурге, я с такой острой болью вспомнил о нем? Здесь, за тысячи километров от Шумихи – продуваемого ветрами городка на задворках России.
Герка говорил, что там могилы его родных. К этим могилам он и уехал. От нас, живых.
Бытовые мелочи… Как явственно стоят они перед глазами: бумажные, подаренные матерью иконки, которые ты складывал в дальний ящик стола за ненадобностью, первые рисунки сына, порванные при разборе бумаг, – ну, дерево, ну, солнце, человечек, и еще десяток таких же деревьев и человечков, штабеля рубашек в Геркином чемодане и верхняя из них, с перелицованным воротником…
– Спасибо тебе, – сказал я Фредерике, когда мы вышли из костела. – Только не спрашивай, за что, ладно?
– Ты вернулся к своим, – глядя перед собой, произнесла она. – Я хотела и не хотела этого. Теперь ты ближе к ним и дальше от меня. Но так лучше тебе…
– Мне было бы лучше, если бы все были рядом: и ты, и они…
– Так не бывает. Остается что-то одно, – сказала она и пошла вперед.
Я смотрел ей вслед и думал о том, сколько за эти годы прошло через меня родных, близких, единственных. Прошло и ушло безвозвратно, а я физически, до боли в суставах ничего не мог этому противопоставить. И вот теперь уходит она…
– Фредерика! – отчаянно крикнул я.
Она резко обернулась на мой крик, сделала шаг навстречу и остановилась.
Так мы и стояли, разграниченные проезжей частью улицы, дома которой можно задевать плечами…
Вечер мы провели в холле гостиницы. За третьим столиком от барной стойки.
Постояльцы отеля спускались в бар, заказывая кофе, пиво, джин с тоником или коньяки из стоящих особняком дорогих бутылок. Они приходили на полчаса, час, пили, возвращались в номера, а место за столиками уже занимали другие: шумные, раскрепощенные, как подавляющее большинство европейцев.
И в этой череде лиц заключалась спасительная для нас с Фредерикой суета – сегодняшним вечером нам нельзя было оставаться наедине. Слишком неотвратимо приближалось отрезвляющее утро следующего дня, в котором мы должны были расстаться навсегда.
– Эти девять свечей – они кому? – задал я мучавший меня вопрос.
– Всем, кто был у меня, – отстраненно произнесла Фредерика, – отцу, маме… У нас была большая дружная семья: дядюшки, тетушки, сестры…
– Что значит была? У тебя что, никого нет? – ошеломленно спросил я.