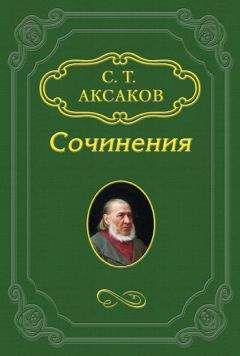Джузеппе Маротта - Золото Неаполя: Рассказы
Я никогда раньше не бывал на Стальено и вот сел в трамвай и поехал; было чудесное апрельское утро, которое сверкало и переливалось, как огромная хрустальная люстра. Кажется, оно называлось Долина Бизаньо, то местечко, через которое шел трамвай, весело позвякивая на узеньких генуэзских рельсах (что это — жадность на землю или тоска по décauvilles[63] или что-то совсем другое?): убогие домишки с одной стороны и высохшее русло реки с другой. Ясновидящий мог бы поспорить тут с ювелиром — кто первым найдет в Бизаньо воду; плутал здесь какой-то ручеек, совсем узенький, но сверкающий, яркий, который разбрасывал среди камней свои наивные ожерелья и, казалось, то и дело останавливался, чтобы спросить дорогу; где-то далеко-далеко на хрупких металлических мостиках как будто застыли, боясь потерять равновесие, какие-то люди, которые казались отсюда нарисованными, воскресшими из небытия: они были как фигурки с пожелтевшего титульного листа книги, датированной по крайней мере 1835 годом, тем самым годом, когда архитектор Карло Барабино создал Стальено. Ах, почему, почему иные из образов становятся тем прекраснее, тем сильнее врезаются в память, чем безвозвратнее овладевает ими прошлое, отрезая их от нас? Все, на что стоит смотреть и что стоит слушать, уже когда-то было и не повторится; в тот самый миг, когда что-то рождается или случается, самое лучшее в нем — это то, что уже было когда-то, было когда-то. Я говорил все это себе, а не той — то ли хрупкой сиротке, то ли вдовушке, что сидела в трамвае напротив меня, а теперь, купив в одной из чистеньких лавочек на площади (лавочки эти, построенные из стекла и алюминия, такие приветливые и такие светлые, что так и подбивают обзавестись собственным покойником) цветы и свечи, танцующим шагом вошла в калитку. Я шел следом за ней и думал: какое солнце и какая свежесть; это кладбище — женщина, это кладбище — блондинка, это кладбище — молодо, это кладбище для меня.
Мне понравились краски и формы Стальено, то есть и тело его, и душа. Стальено — это сад. С каким удовольствием откинулось оно на скалу за своей спиной и как изящна, как точно выбрана эта поза, поза ожидания, которая, собственно, здесь и нужна; да, мы должны предстать на Страшном суде, но ведь не сегодня же? Так давайте ляжем так, чтобы можно было опереться на скалу, а листья, птицы и времена года пусть развлекают нас своими рассказами. Тут до того хорошо, что и не заметишь, как станешь прахом.
Есть Стальено нижнее, равнинное — кладбище для бедных, где кресты стоят густо, как колосья, а между ними рассеяны портики, под которыми покойники, видимо, прячутся во время дождя, а есть верхнее — роскошные надгробья, разбросанные по склону холма, которые первыми услышат трубу, когда бог опустошит кладбища, и они станут с той минуты созерцать бесконечность, как холодные глаза луны. Аминь. В нижнем Стальено я видел много могил, где похоронены жертвы последней войны: немецкие и итальянские солдаты, разделенные лишь тропинкой; чуть дальше — партизаны, в чьих эпитафиях сохранены их боевые клички — «Рене», «Ураган», «Руки вверх» и т.п.; по большей части это были совсем еще молодые ребята, на их эмалированных портретах я узнал черты множества моих одноклассников, которые сразу же изменили в моей памяти выражение лиц — из смеющихся они сделались укоряющими. Я заметил женщину, которая положила несколько цветов на мраморную плиту с надписью: «Неизвестный партизан»; она была старая и бедная, эдакий кривой гвоздик, воплощение несчастливости, без имени и фамилии, и потому тот сирота или неизвестный, который тлел в этом углу кладбища, принадлежал ей по праву.
Я пошутил, сказав, что под портиками нижнего Стальено покойники прячутся от дождя, я в этом не уверен, все-таки скорее всего и там вытянулись в ряд надгробья с эпитафиями и скульптурами, красивыми и уродливыми. Что касается последних, то это обычное состязание аллегорий: от «Вечного сна» до «Ангела воскресения», от «Надежды» до «Милосердия», от «Кроткой девственницы» до «Гименея душ», от «Мира» до «Оплакивания» и «Молчания»; в отличие от смерти барельефы и статуи действуют не прямо, а посредством метафор. Лучше всего те эпитафии, в которых нет пустословия. Например, вот такая: «Мы, Итало и Маргерита, укрылись здесь от мира страданий. Порадуйтесь вместе с нами». Каждому, конечно, свое, но на Стальено лежит множество людей, которые вовсе не жалуются на свое положение! Джулио Гатти (1864–1918) на изящнейшем генуэзском диалекте, который я попытаюсь приблизительно перевести, говорит, например, следующее:
Наконец-то я умер и мне хорошо,
Лишь теперь я совсем не страдаю,
Потому что от злобы людской и от слез
Я в могиле своей отдыхаю.
И у вас я почти ничего не прошу.
Коль найдутся минутки пустые,
Забегите ко мне, я всегда здесь лежу,
Даже в праздники и выходные,
Так и буду лежать здесь до судного дня,
И спасибо тому, кто помянет меня.
Кстати, об остроумных эпитафиях: один из посетителей кладбища, с которым я разговорился, сказал мне, что есть тут одна (сам я ее не видел и потому не ручаюсь), которая звучит так:
Мне было очень хорошо,
Но я хотел, чтоб лучше стало.
Я «Ле Руа» взял порошок,
И в тот же миг меня не стало.
«Ле Руа» — это такое лекарство, слабительное кажется, очень популярное в Лигурии. Представляю, как вытянулось лицо у фабриканта, выпускающего данное средство, когда, придя на кладбище, он прочел эти несправедливые строчки. Правда, может быть, он несколько приободрился при мысли о безмолвной защите множества людей, которые заполнили собой целое кладбище, отнюдь не попробовав его лекарства… «Они не принимали „Ле Руа“, и все-таки их не стало», — должно быть, безмолвно возразил он.
Поднимаясь в верхнее Стальено, я с какого-то возвышения увидел «Миланский собор». Так называется семейный склеп графов Реджо — Миланский собор в миниатюре. Но он меня не привлек, меня притягивала к себе другая могила, у самого входа в крематорий, — одинокая, мирная, тихая, увенчанная бюстом улыбающегося старичка. На ней была дата рождения, а даты смерти не было, потому что старичок был еще жив. Я прочел: «Рокко Москато. Гид и переводчик. Распорядился воздвигнуть заранее, в 1941 году». За этим следовали стишки на диалекте, в которых говорилось следующее: «Я вожу иностранцев по городу, показываю им памятники. У меня веселое имя,[64] и потому я сам веселый и симпатичный. Сидя на козлах рядом с извозчиком, я всегда был на высоте задачи: я успел показать людям полмира, я прекрасно знаю три языка, но обосновался я в Генуе, потому что она мне подходит. Если вам понравится моя могила, положите цветок и пожелайте мне мира». Я представил себе, как этот Рокко Москато чуть ли не каждый день приходит на Стальено постоять у своей могилы. Смеясь, он здоровается со своим бюстом и примеряет на него берет: пропотевшая подкладка оставляет след на мраморном лбу, что-то вроде морщинки, которую постепенно стирает солнце.
Ах, это солнце Стальено среди карабкающихся по холму могил! Ковры, гобелены, пледы, шарфы, плащи солнца для стариков-покойников, которые собрались здесь, как собираются на прогулку выздоравливающие в Сан-Ремо или Ницце. Мы никогда не выздоравливаем от жизни и мира полностью, мы до последнего ждем еще чего-то, что должны получить взамен солнца Стальено. Вероятно, тут можно и поторговаться. Я бы попросил много, я бы попросил всё за то, что покину эту могилу на холме, всю залитую солнцем.
Я загляделся на лужайки, где было совсем немного надгробий: короткие полоски травы походили на террасы, на которых на лигурийском побережье выращивают в межсезонье гвоздики и зелень; я видел балконы, лестничные площадки, подоконники, водосточные трубы этих мест вечного успокоения, и меня охватывала сладкая грусть; ах, если бы уснуть именно здесь, не раньше, конечно, чем придет час, но именно здесь, под мышкой у Стальено. Но я — прирожденный читатель и потому продолжал разглядывать эпитафии. Сколько тут таких, как вот эта: «Здесь лежит Сильвия Ронки, умершая в результате несчастного случая 29 мая 1866 года на рейде Тулона», сколько отсылок на дальние страны — Испанию, Африку, Бразилию… каждый шаг тут — это глава приключенческого романа (Дюма, Мелвилл, Конрад) из жизни приморского города, который, куда бы ни занесла судьба его детей, все равно зовет их домой, помахивая им издали зеленым платочком Стальено.
Я окончил свои скитания у могилы Мадзини,[65] вписанной в небольшую рощицу; интересно, по-прежнему ли она нравится В. Г. Грассо, лежащему неподалеку ее создателю, вдохновлявшемуся греческими и египетскими образцами? В ограде покоится и Мария Мадзини, умершая 9 августа 1852 года; живо еще и дерево, к которому прислонялся Герой, молясь о ней, своей матери; а еще там стоял, склонив голову и положив руки на решетку, какой-то человек — такой неподвижный, словно бы неживой, который вызвал мое любопытство. От садовника я узнал, что это почитатель Мадзини, который проводит у могилы целые дни, и так уже несколько лет. Это был старик — изящный, бледный, худой, он был похож на нож из слоновой кости, положенный на обложку драгоценной книги; он не взглянул на меня ни тогда, когда я приблизился к могиле, ни когда отошел. Я опять спустился на площадь и пошел пешком по улице Боббио; у меня было странное чувство, что за мной кто-то идет: так бывает всегда, когда я выхожу с кладбища; я резко обернулся — там не было ничего, кроме горнего света.