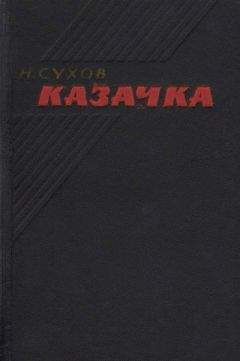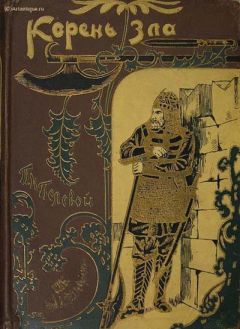Николай Сухов - Казачка
Особенно доставалось Наумовне. Никак она не могла угодить старику. Всю жизнь промаялась, белого свету не видела — угождала. До слепоты дожила, и опять все потрафляй. Ржавая пила, а не старик. Да хоть бы за дело пилил-то, уж не досадно было бы. А то так, ни за что ни про что. Сидит ровно сыч, и то не так и другое не эдак. То дюже кисло ему, то дюже пресно. А того не возьмет в толк, что ей уже не двадцать лет — бегать, высунув язык. И печь, и птица, и свиньи — все на ее руках. И по сю пору. А руки-то у нее не приставные ведь, уже ломят по ночам. Сроду не нанял ни одной работницы, все женой отыгрывается. Да смолоду уж такая доля: тогда еще и достатков не хватало, и сама Наумовна была покрепче, поухватистей. А теперь по ноздри всего, и все равно жадует. А что жена ног скоро таскать не будет — ему и в голову не приходит. А пора бы, давно пора дать ей, Наумовне, хоть помощницу, если нет смены. Надеялась на смену, на облегчение под старость — на снох надеялась, да, видно, понапрасну. Одного сына женили и то не в добрый час.
Между Трофимом и Петром Васильевичем за последние месяцы установились несколько своеобычные отношения. С потерей Нади Трофим как-то утратил и то, что старику больше всего в нем было по сердцу и за что он больше всего был привязан к нему: хозяйственную цепкость, смекалку, ревностность. С того времени как Трофим остался соломенным вдовцом, его словно бы подменили. Он стал совершенно равнодушен и к хозяйственным убыткам, и к хозяйственным прибыткам. Даже больше того: он стал просто нерадив ко всему, по-прежнему частенько пил и пропадал по ночам. У Петра Васильевича, глядя на это, переворачивалось нутро. Но он понимал молодость, понимал сына, считал его состояние делом наносным, временной болезнью и, укротив себя, молча выжидал.
Трофим действительно тосковал, и ему было не до хозяйства. Полгода, проведенные без Нади, были в его жизни самым черным временем. Трудно сказать, что в Наде так влекло его. Была ли это юношеская, безрассудная, впервые поднявшаяся в нем страсть, от которой, несмотря на все, он не мог пока отрешиться, или щемило его огромное растравленное самолюбие? Как бы ни было, а Надю он все еще любил гнетущей злой любовью, и конца этой любви не видно было.
Летом, зная о том, что Латаный, его дружок, служит в том же полку, где и Надя, Трофим послал ему письмо и как бы вскользь, между прочим, шутливо спросил: как, мол, там моя благоверная, все еще прыгает? Видно, в глубине души он все еще таил несбыточные надежды: авось между Надей и Федором произойдет размолвка, авось с Федором что-нибудь случится… Но ответ Латаного вряд ли принес ему хоть каплю успокоения. Он написал Трофиму, что-де благоверная твоя ничего, милосердствует; ухлыстывают-де за ней тут даже их благородия господа офицеры, но она, мол, держит себя строго и, окромя Федора, знать никого не хочет.
Об отношениях Петра Васильевича к старшему сыну Сергею, фронтовому офицеру, напоминавшему мать не только сухой, костлявой наружностью, но и больше всего характером, неровным, вспыльчивым и в то же время податливым, — о теперешних отношениях к нему старика Абанкина говорить пока рано, так как приехал-то Сергей всего лишь неделю назад. За годы войны дома он ни разу не побывал, и внезапное его появление в хуторе именно теперь было большим событием. По какому случаю он приехал и надолго ли — ни от него самого, ни от кого-либо другого из семьи Абанкиных добиться люди не могли. Говорили, что, мол, приехал в отпуск — и все тут. Но спустя время в хуторе все же стало известно, что не в отпуск Сергей приехал, а просто-напросто убежал из части; что после незадачливого похода на столицу армии Крымова, в какую входил и Сергеев полк, а главным образом после Октябрьского переворота, офицер Абанкин, командовавший сотней, рассорился с сотенным казачьим ревкомом и с казаками, с которыми он и до этого не очень-то дружил, бросил под Питером подразделение и, спасая шкуру, удрал.
Никогда Сергей не отличался усердием к хозяйству, чем в свое время принес родителю немало горьких минут. Учился он в высшеначальном училище, в Филоновской станице. Окончив, хотел было перейти в Урюпинское реальное, но на экзамене на букве «ять» срезался, с тех пор и в ученые не попал и от хозяйства отбился. Если, бывало, что и делал по хозяйству, так спустя рукава, нехотя, лишь бы отвести отцовский гнев. Не проявил он никакого интереса к хозяйству и теперь. Целыми днями сидел у окна, чистил разнообразные мундштуки, набивал табаком гильзы и при случае, по перенятой от кого-то манере, презрительно топырил нижнюю губу, подпирая ее изнутри языком. При этом его стриженные по-английски усики табачного цвета резко перекашивались, отчего все лицо его, длинное, тонкое и обычно довольно приятное, становилось уродливым.
Пробыв в хуторе какую-нибудь неделю и не найдя себе по нраву дела, он захандрил и начал поговаривать о своем отъезде. Правда, поговаривать об отъезде он начал не только потому, что хуторские будни ему оказались в тягость. Главная причина, по его словам, была в том, что сидеть в такое время на печи и ждать, пока тебя, голенького, оттуда стащат, неумно; надо-де защищать и себя и область от надвигавшихся испытаний. И он собирался ехать в Новочеркасск, где генерал Алексеев уже группировал офицеров и юнкеров, сколачивал из них добровольческие отряды.
Но Петр Васильевич к этому намерению сына отнесся неодобрительно.
— Защищать область — это хорошо, надо, — сказал он, — но знычт то ни токма, сперва надо подумать о своей рубашке, она ближе к телу. Ты поедешь защищать там кого-то, а тут батьку и собственное имущество некому будет защитить. Лучше б обождать пока, осмотреться.
Сергей подумал и отложил отъезд.
Петр Васильевич последнее время не только днем не находил себе места, но и ночью. Лежа на толстой пуховой перине рядом с Наумовной, он до зорьки не смыкал глаз, ворочался, кряхтел, и то и дело задевал старуху то локтем, то коленкой.
Наумовна крепится, крепится и не вытерпит:
— Что тебя теты мучают, — скажет она, — что ты ни минутки не дашь покою, ровно шилом тебе… Может, ничего и не будет, а ты уж на стенку лезешь, раньше смерти умираешь.
Петр Васильевич сердито прикрикивал на нее:
— Волос, знычт, длинен, да ум короток! То-то, прости господи… Помолчи лучше! Людей никак уж пообчистили, поотобрали участки, а у нас что ж… думаешь, промахнутся? Как бы не так, жди!
— Куда ж теперь… Другие ведь живут без участков, — не унималась Наумовна, — не в петлю же лезть?
— Дура ты, дура, вот что, из ума выжила! — хрипел Петр Васильевич, и старинная кровать под ним раскачивалась и стонала.
Наумовна уже присмотрелась к переменам в старике, попривыкла к его выходкам. А в первую ночь, когда он только услышал о новой власти и о том, что вечным землям пришел конец, — не на шутку перепугал Наумовну. Всю ту ночь напролет, пока на дворе не забелелось, он, выгибая половицы, грузно шаркал пухлыми босыми ступнями, сжимал кулаки, опускался в изнеможении на стул и снова шаркал. Нательная сорочка его была распахнута, борода и волосы на голове всклокочены, и весь он, белый, огромный, взъерошенный, напоминал буйных, которых держат взаперти.
Наумовна день-деньской была на ногах, и ей нестерпимо хотелось спать. Но едва она начинала забываться, в уши ей врывался либо грохот стула, либо злобное рычание: «Не-ет, знычт, нашармака вы не проедете, не подживетесь, нет!» И она, пугливо встряхиваясь, приподнимала голову, осовелыми глазами глядела на старика. Грешница, в тот раз на мысль ей приходило, что со стариком стряслось что-то неладное: или умом малость тронулся, или порчу кто напустил на него. Влез он на кровать в ту ночь с рассветом, когда Наумовне была уже пора вставать, затоплять печь и доить коров. Оттолкнул ее к стенке, стащил с нее одеяло и, подмяв бороду, камнем ткнулся в подушку. Наумовна потихоньку слезла с постели, достала с полки графин крещенской святой воды и, шепча молитву, побрызгала на мужа.
То, что с вечных земель спихивают помещиков и всяких господ, Петра Васильевича ни на волос не огорчало. Так им и надо, поделом! Давно бы этих проклятых белоручек надо было угостить. Они, конечно, чистые, пахучие, образованные; рублю они не кланяются, полтину выбивать не станут и воровать не пойдут; обедают с вилки, чаевничают без блюдца. У них даже уши краснеют, если как-нибудь невзначай при них пустишь матерщинку. Таких, как Петр Васильевич, они даже за стол с собой не посадят, почитают их мужланами и сиволапами; коли когда и соблаговолят подать руку, так после ее полчаса трут мылом да щеточкой. Все это так — они благородные и честные, а Петр Васильевич неотесанный, вежливым обхождениям не учен и даже с подмоченной совестью. Но что, спрашивается, они сделали для того, чтобы быть такими чистыми и благородными? Чем они заслужили богатство? А ничем. Они только родились — и в этом весь их труд, все их умение.