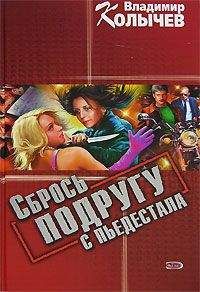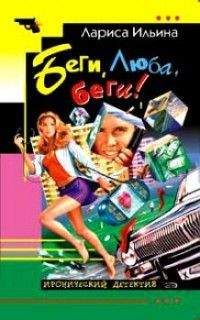Артур Филлипс - Прага
Постой! Это уже превращается в завещание того, кто «нездоров». Какая скука. Я стал нездоров. Я вижу, что мне надо увезти себя от вредных раздражителей, туда, где все мягкое и безопасное. Согласен? Вполне справедливо. Это неудача, моя беда, потому что неизбежно затемняет суть: болезнь скучна. Непереносимость к лактозе — не самое интересное про Эйнштейна. Если у меня не все тип-топ, это еще не значит, что я не прав. Я могу быть идеально здоровым, и все равно правым насчет всего остального. Миллиарды людей и здоровы, и согласны со мной. Я знаю, они есть; могу доказать; почитай мою диссертацию; я это доказал. Конечно, мне невыносимо говорить с ними, ни капли больше, чем ты можешь вытерпеть говорить со мной. Да и зачем тебе? Разумеется, каждому надо помнить: безответная любовь не смертельна, это просто временное расстройство пищеварения, которое не оставляет видимых следов, только незнакомую прежде, а ныне постоянную неспособность есть определенные, особенные, необязательные продукты — иначе получишь жестокое пищевое отравление. От креветок у меня газы — ну, я и не ем креветок. Я же не просиживаю ночи, плача о креветках, правда? Так что порядок. Две таблетки аспирина и стакан воды, помнишь? Теперь мне правда пора заткнуться. Я стал «!» и немного «ой» и в чем-то «А, понимаю…» Вот они каковы, жирные канадские гомики.
Этим и завершились попытки Марка Пейтона дописать свою диссертацию до популярной истории ностальгии. И Джон с горечью вспоминает, что так и не познакомил Марка с Надей, хотя тот несколько раз просил.
Джон не знает, куда девать глаза, его смущает, едва ли не устыжает все, на что ни посмотри: два обрывка несовместимой географии с мягкими белыми рваными краями, плакат с Сарой Бернар, пожелтевший в тех местах, где встречается со стеной, и забрызганный чем-то рыже-коричневым со сковороды, стопка блокнотов на пружинке и толстые тома: «Клочки славы, останки гордости, как умирают и остаются в памяти империи». «Был ли де Сад садистом? Был ли Христос христианином? Исследование аспектов именования, связанных с харизматическими лидерами». Будапешт 1900. «Вы мой командир? Мнемонически-темпоральные расстройства участников войн». На обложке верхней книжки, «Конец столетий, культурные трансформации в 90-е: 1290–1899» профессора философии Лайзы Р. Прут, материализуется муха. Прошвырнувшись несколько дюймов, останавливается передохнуть, потом гуляет дальше. Останавливается второй раз на черном вдавленном заголовке, оттиснутом на красной ткани Потирает руки и рассматривает Джона сквозь сотню золотых глаз. Джон прихлопывает ее на черной «К» из «культурных» и несколько минут рассматривает новые мушиные очертания в сером испятнанном дождем свете, что проталкивается в окно. Переломанные волосяные ножки и полупрозрачные крылья отходят от влажного тела, словно у авангардной скульптуры. И как бы сильно Джон ни дул, крылья дрожат, но не отрываются. Меньше чем через час Надя выйдет играть. Все, что всерьез, что на самом деле имеет значение, ждет его на скамье у рояля Появляется не задетый дождем Чарлз, в дверях перехваченный раскатами венгерской речи гигантского коменданта и однословными резюме его крошечной, упакованной в деним жены.
— Что с мадам Ностальжи? — спрашивает Чарлз.
— Кажется, Марк устал от этого города.
— Имел право. Он оставил что-нибудь пожрать? Подыхаю от голода.
Джон сложил блокноты в рогожный мешок, который принесла ему жена коменданта, и оставил троих толпиться в брошенной квартире и готовиться к торгу. Жена коменданта внезапно останавливается, прикрывает ладонью рот, и взвизгивает, глядя на бесстыдный фотоколлаж.
Джон пытается развернуть зонт, чтобы укрыть себя и дневники от основной массы дождя, но скоро ноги промокают по щиколотку, и вот он уже идет в темных грубых ботинках. Взморщенная лужа бросается и обволакивает его до паха; Джон щеголяет в пестрых колготах придворного шута. Проезжающие машины дважды массируют его обращенную к дороге руку холодной коричневой водой. К тому времени, как Джон пробрался к реке — хаосу концентрических кругов в бешеном соперничестве, — он продрог насквозь. Вот он уже бежит по мосту Свободы и дальше по Корсо, вот мокрый и запыхавшийся садится рядом с Надей на скамью у рояля в почти пустом клубе, в руках рогожный мешок, и с ребяческой надеждой — взятка. «Роб Рой».
— Расскажите мне историю, — тихо просит он.
— Святые небеса, Джон Прайс. Ты выглядишь…
— Какую-нибудь вашу историю.
— О чем?
— Все равно. Пожалуйста. Хоть о чем. Главное, хорошую.
Часть четвертая
Прага
I
Девять четких воспоминаний осени 1990-го:
(1) Чарлз Габор, открывающий свою (а прежде — Марка Пейтона) дверь с трусами на голове, нос неаппетитно выпирает спереди.
Чарлз теперь проводит столько времени в обществе Имре Хорвата — исправляя доходные модели и планы менеджмента, мягко наставляемый или ревностно увещеваемый относительно важности «Хорват Киадо» для венгерской истории и будущего морального развития страны, — что, освобождаясь от величественной компании старшего партнера, бывает склонен к необыкновенному ребячеству. Чарлз выходит к двери с трусами на голове; еще на нем шелковый китайский халат, синий металлик, усыпанный золотыми драконами и пагодами.
— Я начинаю подозревать, что прежний съемщик не так уж педантично придерживался гетеросексуальных практик.
Чарлз хлопает полами оставленного Марком халата, найденного на укромном и оттого забытом крючке в ванной, и вынимает из кармана длинный мундштук.
Джонов мир съежился до Чарлза, Нади и Ники — когда ему удается завладеть ее вниманием. Джон плюхается в кресло.
— Тебе ведь этот чувак нравился, да? — спрашивает Чарлз, слегка изумленный такой возможностью. — Я-то его, честно говоря, выносил с трудом. Я бы прекрасно к нему относился, но мне всегда казалось, что он несколько предубежден. Вроде как раньше люди бизнесом не занимались, а я его придумал месяц назад.
— Да не важно.
Чарлз наконец снимает белье с головы.
— Скажи, э, брат что-нибудь говорил тебе про сегодня?
— Нет, я с ним давно не разговаривал.
— Я так и предполагал.
(2) Таким образом, в тот же день Чарлз, объяснив, что «всецело за упрочение семейных связей, малыш», ничего не рассказывая, привез Джона на вокзал Келети и поставил его перед Скоттом и Марией, готовыми сесть в поезд и навсегда уехать в Румынию — точнее, в венгероязычную Трансильванию, — чтобы преподавать там английский и музыку соответственно.
Взгляд Джона настойчиво уплывает сквозь прохладный воздух к нависающей крыше перрона: сложенная под прямым углом, усиленная ржавыми металлическими ребрами, не совсем прозрачная, грязно-белая, как пластиковая крыша гигантского садового навеса. Два брата медленно шагают по платформе — которую освещает просочившееся сквозь грязную полупрозрачность солнце, — пока Чарлз с Марией покупают газеты и шоколад в дорогу.
— Почему ты не сказал мне, что уезжаешь?
— Ой, я тебя умоляю.
— Как прошла свадьба?
— Затмили все мировые свадебные журналы.
— Послушай. — Джон останавливается. — Знаешь, я что думаю? Каждый ненавидит свое детство, все говорят, что его преодолевают и что их личности формировала паршивая семья. Но как такое может быть? Если у всех была паршивая семья, тогда почему у нас у всех разные личности? Это не должно влиять, понимаешь, что я имею в виду? Это не должно…
Вот именно поэтому я не сказал тебе, что уезжаю. — Скотт смеется, глядит на часы. — Ну ладно, братан, в этот раз не езди за мной. — Опять смех. — Иначе придется мне тебя убить, а в Трансильвании за такое не сажают. — Смех. — Серьезно. — Подобающе серьезное лицо. — Я никогда больше не хочу тебя видеть. — Пауза, смех.
— Что я тебе такого сделал?
— Ты о чем?
— Что бы там с тобой ни сотворилось, я не виноват.
— Нет, конечно, не виноват. Ты совершенство. Никогда не меняйся. — Пауза. — Тебе надо быть полегче. Ты все воспринимаешь слишком серьезно. — Пауза. — Но правда, — улыбка, — я не хочу тебя больше видеть. — Смех.
И вот поезд: чумазый, обшарпанный, коптящий беглец из старого военного фильма, самый выгиб букв с хвостиками на округлых серых от сажи боках — шрифтовой атавизм (BUDAPEST — BUCURESTI NORD[75]), какой пришелся бы по вкусу Марку, Скотт высовывается из окна, когда страшилище, дернувшись, приходит в движение и тащит себя в ярко-синий осенний день — четвертую стену вокзала. Скотт высовывается опасно далеко — агрессивное проявление joie de vivre;[76] невидимы остаются только ноги Буйной прощальной мельницей Скотт машет обеими руками; лицо расползается в улыбке, широкой и зубастой; он ловит взгляд брата; и тут его пальцы складываются в традиционный непристойный жест, лишь на миг, и снова широкая улыбка и взмахи, и снова непристойный жест, еще и еще, пока поезд не удаляется довольно, чтобы начать первый поворот. Прохладный осенний ветер гонит по платформе конфетные обертки и сигаретный пепел; все, что было хорошего в этом времени, носится в воздухе вокруг зарождения неясного воспоминания: Мария, в тихом ужасе, что едет не на Запад, смиренно улыбается из-за Скоттова плеча, и Скотт — вырядившийся в твидовый пиджак, белую оксфордовую рубашку и галстук, — высовывается из древнего поезда, машет и улыбается, враждебно или дурашливо-враждебно показывает брату средний палец, а невозможно белые облака тем временем встречаются с первыми черными выдохами уменьшающегося локомотива, и невозможно синее небо, вырезанное лобзиком по контуру между неровных фасадов соседних зданий и нависающей кровлей, и венгры на перроне машут другим тающим пассажирам, и огромные часы, десятилетиями не мытые, но сохраняющие приличную видимость точного времени, что идет гулкими щелчками, не зная благ швейцарской кварцевой хронометрической технологии, которую ниже рекламирует билборд с наручными часами.