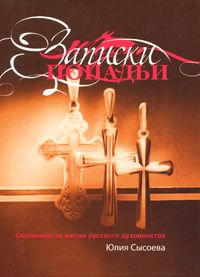Джонатан Коу - Клуб Ракалий
Бенжамен ухватился за возможность вернуть себе хотя бы часть утраченного достоинства.
— Да я, собственно, уже и нашел.
— О? — отозвалась Дженнифер с равнодушием приятно неубедительным. — Я ее знаю?
— Да, разумеется. Сисили.
И снова реакция ее оказалась совсем не той, какую он ожидал. У Дженнифер перехватило дыхание, а следом на лице появилось выражение, которого Бенжамен никогда, за все те месяцы, что знал ее, еще не видел. Нежное, укоризненное и… озабоченное.
— О, Бен… нет, — взмолилась она. — Только не она. Господи боже, ты и Сисили!
— А что такого? — спросил Бенжамен. (Едва не прибавив: «Всем можно, а мне нельзя?»)
— Разве тебя никто насчет Сисили не предупреждал? Разве ты не понял, как она поступает с людьми? Обгладывает их и выплевывает голые кости?
Он покачал головой:
— Ты не знаешь ее. Не знаешь, как знаю я.
— А вот это, — с коротким смешком произнесла Дженнифер, — самая большая глупость, какую я когда-либо слышала.
Впрочем, убедить Бенжамена ей было не по силам. Для доводов здравого смысла он стал уже недоступным. Перед ним наконец растворилась дверь — дверь, которой предстояло вывести его из прежней жизни в новую, бесконечно более полную. Никакие слова Дженнифер не смогли бы помешать ему переступить через этот порог. Да и любые слова, кто бы их ни произнес, не способны были отменить мгновения, проведенные им с Сисили, — мгновения, в которые они стояли на мысу и Сисили приносила ему обеты, а он смотрел в ее глаза и видел в них отраженными дважды чистые синие воды и раззявленную пасть Порт-Нейгула, Уст Ада, — пути в самую утробу рока.
Зеленый пивной кружок
В жизни существуют мгновения, достойные того, чтобы облечь их в слова, мгновения столь насыщенные, настолько пропитанные чувством, что они становятся вневременными, подобными тому, в которое Ингер с Эмилем сидели на скамье розария и улыбались в камеру, или тому, когда мать Ингер подняла венецианские жалюзи до самого верха высокого окна ее гостиной, или тому, в которое Малкольм открыл коробочку с обручальным кольцом и совсем уж собрался попросить мою сестру выйти за него замуж (потому что он так ее и не попросил, теперь я это знаю), вот и сейчас наступает одно из них — я поднимаю к губам стакан с «Гиннессом» и думаю, что, конечно, стать еще лучше жизнь моя не сможет, теперь остается лишь спуск, и потому как мне продлить это мгновение, как растянуть его, как остановить навсегда? — ведь я побывал уже в «Парадиз-Плейс», в «Райском месте», а с этим ничто не способно сравниться, et in Arcadia ego,[55] как кто-то некогда сказал, забыл кто, — но, вероятно, я смогу это проделать, возможно, если я останусь неподвижным, если просто буду держать стакан, вот здесь, в двух дюймах от губ, и даже не погляжу на бар, где Сэм покупает мне еще один, и — нет, я не поверну головы даже для того, чтобы взглянуть в окно, я и на Сисили не стану глядеть, на мою прекрасную Сисили, мою прекрасную подругу, — это правда, я знаю, звучит невероятно, но это правда, так оно и есть, — ведь мне не нужно смотреть на нее сейчас, я знаю, что снова увижу ее через несколько часов, а до той поры смогу воображать ее, воображать, как она покидает «Парадиз-Плейс», минует бетонные пределы библиотеки и, перейдя Чемберлен-сквер, выходит на Виктория-сквер, она забрасывает на спину длинные волосы, выражение задумчивой отрешенности, чего-то не от мира сего, она никогда не сознает, как смотрят на нее люди, оборачиваясь ей вслед, неодолимо, зачарованно, как может она сомневаться в себе, когда люди провожают ее такими взглядами, как может считать себя чем-то иным, не человеком совершенно исключительным, однако она даже не замечает их, мысли ее почти неизменно витают где-то, не знаю где, но узнаю, это одно из многого, что я еще выясню за годы учебы и любви к ней, — годы, которые я предвкушаю, и если воображение подводит меня, то я всегда могу опереться на память, потому что теперь у меня есть воспоминания о Сисили, изумительные воспоминания, но не более изумительные, чем то, что произошло с нами этим утром, однако я должен продвигаться с большой осторожностью, медленно, смакуя каждую подробность, да, это началось, ну ладно, наверное, все началось с первой моей утренней мысли, о чем же я тогда думал? да, верно, я думал о сумке Дикки, как это ни странно, хотя постой, что-то было еще и до этого, что-то приснившееся мне, и, как оно обычно бывает со снами, порядком вспомнить его я не могу, оно ускользнуло, едва я проснулся, и все же я помню полицейских, ряды и ряды полицейских во сне, вообще-то я против полицейских ничего не имею, а тут один вид их наполнил меня страхом, или не меня, а человека, которым я был во сне, — и тот ли я человек, который мне снился? — вот уж вопрос, на который никогда не найдется ответа, однако ощущение страха я помню, он был как-то связан с тем, что я не мог различить лиц полицейских, впрочем, я не уверен, объяснялось ли это тем, что лиц у них не было вовсе, или же тем, что лица их прикрывались касками, когда они стояли там, опустив головы, готовые рвануться вперед, их были сотни и сотни, теперь я вспоминаю эту картину, а может, просто придумываю ее, не знаю, так или иначе, она уже выцветает, но то был образ зловещий — по-моему, они собирались наброситься на толпу с дубинками, какую-то демонстрацию разогнать или еще что, да, собственно, я знаю, откуда он взялся, этот образ, из статьи Дуга, прочитанной мною на той неделе, статьи Дуга в «НМЭ», посвященной Блэру Пичу и тому, что произошло в Саутхолле, — хорошо, значит, этим все и объясняется, ужасная была статья, не в том смысле, что плохо написанная, статья блестящая, с какой стороны ни взгляни, как и все, что пишет Дуг, ужасно то, что в ней описано, такое и представить-то себе невозможно, я еще погадал, не преувеличивает ли он, и почему-то никак не мог избавиться от надежды, что да, он все преувеличил, хоть это и могло дорого ему обойтись, ну так вот, возвращаясь к сегодняшнему утру, когда я проснулся в самой середке сна, — наверное, что-то меня разбудило, может быть, мама, уходя в школу, хлопнула дверью, она теперь преподает — сколько? — четыре дня в неделю, работая, она чувствует себя гораздо более счастливой, а для меня важно, чтобы все были так же счастливы, как я, потому что я просто-напросто самый счастливый человек на свете, ну и вот, едва я проснулся, как в голову мне вскочила, это часто бывает, вещь совершенно незначащая, и меньше чем через осколок фрагмента доли секунды, за время, меньшее даже мига, в который я попробовал потянуться, я позабыл полицейских и уже думал о сумке Дикки, которую не вспоминал несколько лет, два или три самое малое, да если на то пошло, я и о Дикки не вспоминал, поскольку он закончил школу прошлым летом, а к этому времени никто из нас, разумеется, не называл его Дикки, как не называл Стива Дядей Томом, его звали Ричардом Кэмпбеллом, однако в четвертом классе, по-моему в четвертом, мы и вправду звали его Дикки, в этом присутствовало нечто оскорбительное, означавшее, что он малость чокнутый, или слишком женственный, или не знаю уж что еще, как не знаю и того, почему выбор пал в этом смысле именно на него, в то время мы все изображали бог весть кого, делая вид, будто мы голубые, геи, назовите их как хотите, в общем, большая часть того, что мы тогда делали, кажется ныне необъяснимым, включая и выбор Ричарда Кэмпбелла на эту роль, однако еще страннее было то, как мы веселились по поводу сумки Дикки, интересно, кто все это начал, наверное, Гардинг, такое предположение всегда представляется самым надежным, хотя из каких закоулков своего извращенного ума он это извлек, мне не узнать никогда, но пусть так, будем считать, что это Гардинг надумал обратить сумку Дикки не просто в объект издевок, но и — звучит идиотски, я понимаю — в объект полового влечения, в сексуальный объект, если угодно, а происходило все так: каждое утро Дикки входил в класс, неся эту сумку, обычную адидасовскую спортивную сумку из черного винила, немного потертую, но почти неотличимую от сотен других, приносимых каждое утро в школу, и тут же первый, кто его замечал, вскрикивал: «Сумка Дикки! Сумка Дикки!» — то был охотничий клич, и все, находившиеся в классе, бросались к Дикки и вцеплялись в сумку, выдирали из его рук, а после все они падали на нее (но почему же я говорю они? я наравне с прочими участвовал в этом, стало быть, мы отнимали ее у Дикки, мы валились на нее), дальнейшее же я могу описать лишь как своего рода групповое изнасилование, сумка исчезала под грудой тел, раздавался всеобщий оргазменный стон, и все мы по очереди употребляли, иначе не скажешь, сумку Дикки, а владелец ее безнадежно взирал на нас, уже смирившийся с каждодневным непристойным надругательством, на которое был обречен лишь он один — по причинам, которых он, вероятно, никогда не сможет постичь, вот об этом маленьком ритуале я и думал сегодня утром в постели, и, должен признаться, на лице моем играла улыбка, да нет, какая уж там улыбка — я обнаружил, что смеюсь, купаюсь в мстительном детском веселье, но и гадаю, гадаю, подобно другим моим школьным товарищам той поры, чем ныне занят Ричард Кэмпбелл, как ему учится в университете и будет ли он лет двадцать спустя вспоминать о том, что мы вытворяли с его сумкой, и тоже над этим посмеиваться, потому что выбор тут, я думаю, невелик и состоит он в том, что все это оставит в его характере неизгладимый след, обратив его в одинокого социопата, а то и в убийцу, или, по меньшей мере, навеки лишит способности вести нормальную половую жизнь, но это все в будущем, — не думайте, что я докатился до этого, что будущее мне безразлично, просто сейчас я думаю о нынешнем утре, о чувстве, с которым пробудился, забыв мой сон, позволив воспоминаниям о сумке Дикки забрезжить в моей голове, о том, как следом я вдруг осознал, какая странная, насыщенная ожиданием атмосфера царит в доме, как в нем тихо, ведь времени было уже за девять, и мама ушла на работу, и папа с Лоис ушли на работу, а Пол, наверное, в школе, впрочем, прошедшей ночью, вдруг вспомнил я, его здесь и не было, он заночевал у приятеля, и, значит, спальня его пуста, хотя на самом-то деле пустой она не была, да, собственно, и мне полагалось бы уже сидеть на работе, но я был здесь, и на то имелась причина — Сисили, нужно ли говорить об этом, Сисили, оставшаяся на ночь у нас, спавшая в комнате Пола, то был второй уже раз, как она ночевала там, однако сегодня все было совсем иначе, а именно в доме никого этим утром не было, он весь принадлежал нам, и, стало быть, нет ничего удивительного в том, что он представлялся странным, выжидающим, как не удивительно и то, что я решил позвонить и сказаться больным, уведомить Мартина, что утром меня не будет, но даже и так время терять не стоило, каждая секунда, проведенная нами наедине, бесценна, и потому мне следовало обдумать, как я поступлю, как управлюсь с этой ситуацией, ведь мы, Сисили и я, провели в разлуке столь долгое время, восемь месяцев, восемь долгих, пустых месяцев, прожитых ею в Нью-Йорке, с матерью, игра которой пользовалась, на мою беду, огромным успехом, и хотя мы каждую неделю писали друг другу и я слетал туда в январе, чтобы провести с ними несколько дней, нам все еще было не по себе оттого, что мы снова вместе, я видел, ей трудно приладиться к этому, да, возможно, и сам я слишком ясно давал ей понять по временам, что замечаю это, возможно, я вел себя слишком благопристойно, нерешительно, в конце концов, это в моем характере, о да, и я наконец обзавелся хоть каким-то, пусть и совсем незначительным, самосознанием, и вовсе не преждевременно, как мог бы сказать кое-кто (тот же Дуг, например), однако оно-то и подразумевало, что я был отнюдь не уверен в том, как вести себя этим утром, поначалу то есть, и в итоге избрал путь, который кое-кто (тот же Дуг, например) счел бы наиболее безопасным, — спустился вниз, заварил чай и отнес его Сисили, да, чай! уверен, у дяди Глина нашлось бы что об этом сказать, о множестве применений, которые англичане подыскали для скромной чашки чая, о том, какое обилие чувств удается нам за нею скрывать, какие уловки маскируем мы с ее помощью, сам-то я полагаю, что чай — это еще и наследие колониальной эпохи, думаю, дядя Глин мог бы с наслаждением распространяться на эту тему весь день, однако кому уж так важно, что он там говорит, я и не думал о нем, поднимаясь с двумя чашками по скрипучей лестнице, одиннадцатая, да, одиннадцатая ступенька, вот кто скрипит громче всех, как хорошо узнаешь свой дом за восемнадцать лет, наверное, тут удивляться нечему, и я думал о том, что мне сказать Сисили, когда я ее разбужу, думал о словах, как обычно, я же великий мастер слова, я пришел к убеждению, что слова позволяют достичь едва ли не всего, и в то же время начинал понимать — надеюсь, я не забегаю вперед, — начинал понимать, что существуют положения, в которых слова далеко не самое главное, положения, которые требуют чего-то лежащего за пределами слов, они-то, как правило, и ставят меня в тупик, так было и этим утром, когда я толчком растворил дверь, ведущую в спальню Пола, и, пятясь, вошел в нее с двумя чашками чая и опустил их на столик рядом с кроватью, все еще думая, что я скажу Сисили, когда разбужу ее, еще пытаясь подобрать правильные слова, не помню теперь, что они собой представляли, поскольку выяснилось, что Сисили и не спит, выяснилось быстро, сна у нее не было ни в одном глазу, и первое, что она сделала, когда я опустился с ней рядом на край кровати, — она села в постели и оказалась нагой — господи! — совершенно нагой, а я был в пижаме и, надо думать, выглядел довольно смешно — пижамы лишены обаяния, — однако ее это, видимо, не смущало, потому что она села, медленно, сонно, и обняла меня руками за шею, голыми, чудесными голыми руками, я мог бы сейчас мысленно остановиться на них на какое-то время, или не мог бы, нет, не могу, мысли скачут, и губы ее были чуть приоткрыты, и она приблизила их к моим, и груди ее коснулись моей груди, и за все те годы, что я знал Сисили, потому что, боже ты мой, мы знали друг друга уже больше двух лет, никто не может обвинить нас в поспешности, мы потратили кучу времени на то, чтобы прийти к этому мигу, однако теперь мы были в нем, мы стояли на самом пороге Райского Места, и за все те годы, что я знал Сисили, я впервые видел ее тело, притрагивался к нему, и я положил ладонь ей на грудь, такую мягкую, гладкую, неописуемую, и этот поцелуй, она целовала меня так нежно, нет, мы целовались и прежде, множество раз, когда я встречался с нею в Нью-Йорке, в поцелуях у нас недостатка не было, уверяю вас, но в этом присутствовало нечто новое, как будто все наши прежние поцелуи вели именно к нему, как будто все мгновения, пережитые нами вместе — а сколько их было, этих мгновений? — вот и еще один вопрос, на который не существует ответа, никто не знает, что такое мгновение, сколько оно длится, его невозможно измерить, невозможно о нем говорить, — я думаю, число их было бесконечным, мы попадаем здесь в царство бесконечности, — так или иначе, мне казалось, что все эти мгновения внезапно сбежались, соединились, слились в одно, вот в это, в великий, безудержный миг, начавшийся с того, что ее голые руки обвили мою шею, и продлившийся — не знаю как долго, не имею понятия, как долго мы пробыли в спальне, в постели Пола, под его идиотскими плакатами, один из них, большой, изображает девушку из «Ангелов Чарли» — в бикини, с бессмысленной улыбкой, — другой же, вы не поверите, это портрет Маргарет Тэтчер, под которым значится: «Голосуйте за консерваторов!» — да! по сути дела, я утратил девственность дважды, один раз при участии некоего багажного места, другой под портретом миссис Тэтчер, не самый, должен признать, удачный зачин половой жизни, могу, однако, сказать, что в это утро, в эти десять минут или три часа, не знаю, сколько все длилось, особого внимания я ей не уделял, потому что, клянусь, я ни разу не видел и никогда не увижу, уверен, ничего столь же прекрасного, как то, что показала мне Сисили, когда она откинулась в постели и сбросила с себя одеяло и протянула ко мне голые руки, и слов, пригодных для описания этого, просто не существует, ну ладно, пусть они существуют, но принадлежат иному порядку вещей, их прикарманили журнальчики Калпеппера, им не передать всей прелести, не говорю уж тайны, да, вот верное слово, тайны того, что показала мне этим утром Сисили и чего я коснулся, потому что, сбросив бессмысленную пижаму, я протянул руку, чтобы коснуться ее, и когда я сделал это, когда мои изумленные пальцы впервые притронулись к этому месту, к Райскому Месту, лицо ее изменилось, я наблюдал за ее лицом, она улыбалась, она издала звук чуть слышный, подобие шепота, она чуть подрагивала на простынях, но я смотрел на ее улыбку, и то не была улыбка удовольствия или счастья, улыбка Сисили уходила куда-то дальше, и, нет, я не хочу сказать, что я величайший любовник в мире, куда там, спросите хоть у Дженнифер Хокинс, я не говорю, что способен одним лишь касанием пальцев вознести женщину на вершину блаженства, но в этом утре с Сисили присутствовало нечто, рожденное нашими чувствами друг к другу, нечто от всего происшедшего между нами за эти годы, от времени, которое ушло у нас на то, чтобы добраться до этой минуты, и это сделало его не похожим на все иные, я хочу сказать, не похожим для Сисили, ведь со мной все происходило впервые, а с ней — нет, и все-таки она мне сказала потом, что в каком-то смысле впервые была с человеком, которого любит, и, может быть, оттого в улыбке ее светилась такая тайна, опять это слово, я то и дело возвращаюсь к нему, когда я коснулся ее, коснулся между ног, а после склонился над ней, и вдохнул ее запах, и ощутил ее вкус, самым кончиком языка, я ощущаю его и сейчас, о да, вкус Сисили остается на моем языке, правда, уже не один, не беспримесный, теперь я ощущаю вкус Сисили и «Гиннесса», и боже ты мой, я надеюсь, что вкус ее никогда не покинет меня, но нужно остановиться, подумать о чем-то еще, а там и вернуться к нему, к самому первому ощущению ее вкуса, он слишком хорош для того, чтобы помыслить о нем один только раз и забыть, и сейчас я хочу вновь представить себе Сисили идущей по Виктория-сквер, что она, вероятно, и делает в эту минуту, да, воображение и память, вот мое оружие, два вида оружия в битве со временем, мой пропуск в бесконечность, и пока они есть у меня, бояться мне нечего, она сейчас думает обо мне, я знаю, думает, если, конечно, не думает об Элен, что также возможно, ведь она потому и заторопилась домой — позвонила только что матери, минут пятнадцать назад, и мать сказала, что пришло письмо из Америки, от Элен, так что, возможно, Сисили думает об Элен, но я в это не верю, а верю я в то, что думает она обо мне, но только — воображает она меня или вспоминает? — этого мне не узнать, однако мысль совсем не плоха, я мог бы вообразить ее вспоминающей меня или вспомнить меня воображающей, и это могло бы продолжаться целую вечность — чего я, разумеется, и хочу! — подобием комнаты зеркал или Дома Памяти, да, хорошее выражение, им стоит воспользоваться, вставить его в стихотворение, сделать названием главы, музыкальной пьесы, чего угодно, а причина, по которой оно выглядит столь совершенным, в том, что сейчас я как раз на Дом Памяти и смотрю, поскольку сижу в «Лозе», которая — я заметил это лишь нынешним утром, раньше не замечал — стоит на площади под названием «Райское место», и сквозь окно я вижу ее вместе с Дворцом масонов и Муниципальным банком с одной стороны, с левой, и Домом Баскервилей с правой, между ними он и стоит, Дом Памяти, построенный из портлендского камня и корнуэльского гранита и увенчанный красивым белым куполом (о камне и граните я знаю лишь потому, что мне рассказал про них Филип, когда приезжал на каникулы домой, и мы прогуливались с ним здесь, его переполняли сведения об этих зданиях, похоже, он провел целое посвященное им исследование, и я, как водится, устыдился, потому что способен прожить в городе годы и даже не заметить его архитектуры, даже и не помыслить о том, что стоящие вокруг дома были задуманы как произведения искусства, что у каждого — своя история, Филип же стал по этой части подлинным докой, вот он и рассказал мне о том же, например, Доме Памяти, задуманном куда более величественным, чем то, что было в итоге построено, — в 1925-м, после Первой мировой, — большую часть выделенных на него средств пришлось израсходовать на строительство жилья, так что в конечном счете Дом обошелся всего в 35 000 фунтов, а статуи, его украшающие, выполнены бирмингемским скульптором по имени Альберт Тофт, и в день открытия здания 30 000 человек пришли, принося дань уважения тем, кто погиб на войне, да, Филип знал все это, чудесно было бродить с ним в тот день по Бирмингему и видеть знакомые места словно впервые, потому что знания Филипа и его энтузиазм сообщали им новизну), вот так и сегодня все в моей жизни словно бы изменяется, сам город, меня окружающий, преобразуется, я сижу в «Райском месте» и смотрю на Дом Памяти, и вдруг выясняется, что все это напрямую связано с Сисили и со мной, все — метафора наших чувств, и почему-то весь город обратился в не что иное, как выполненную в натуральную величину схему наших сердец, и я едва не кричу от радости, мне хочется выскочить на площадь и завопить, обращаясь ко всем, кто согласится меня слушать: «Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ ГОРОД, Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ ГОРОД!» — но, как вы, наверное, догадались, ничего я такого не сделал, не в моем это характере, я и с места еще не сдвинулся, так и остался сидеть в моем мгновении, и Сисили все еще пересекает Виктория-сквер, думая обо мне, вспоминая, да, я уже решил, что она сейчас вспоминает — тот день, восемь дней назад, когда я приехал за ней в Хитроу, надо бы вообразить, что она подумала или почувствовала (почувствовала, Бенжамен, почувствовала, займись для разнообразия чувствами), когда прошла сквозь турникет в зал прибытия и увидела меня, ожидающего, выхватила мое лицо из толпы, каким, наверное, встревоженным я выглядел, какими прозрачными были мои нетерпение и нервность, но все улетучилось, едва я увидел, как глаза Сисили вспыхнули, узнавая меня, как лицо ее расплылось в улыбке, и она подошла ко мне, опустила сумку на пол и отбросила волосы с глаз, они всегда спадают ей на глаза, и обняла меня, на ней был замшевый жакет, я помню ткань замшевого жакета, с него свисали впереди такие штуковины, как они называются, кисточки, что ли, вроде ковбойских, господи, ну как же я стану писателем, если и одежду-то толком описать не способен, может, лучше мне все же податься в композиторы, и мы обнялись, она поднесла свои губы к моим, все происходило точно в замедленной съемке, и я гадал, смотрит ли кто на нас, мне казалось, что все кругом смотрят, и, ох, снова поцеловать ее, я едва мог в это поверить, три уже месяца прошло, как мы не виделись, я старался не сомневаться в ней все это время, но раз или два, это, наверное, неизбежно, вдруг начинаешь задумываться, не о других мужчинах, они-то меня никогда не тревожили, но об увядании чувств, ведь такое случается постоянно, так мне, во всяком случае, говорили, да и читал я об этом, но когда она поцеловала меня в тот день, я понял — все хорошо, она верна, моя Сисили верна мне, верна обещаниям, данным ею в прошлое лето, на том мысу, как же мне повезло, а потом мы поехали домой, долгая была поездка, собственно, самая долгая в моей жизни, о чем мы тогда говорили? мы же слали друг другу письма, длинные письма, так что знали о новостях друг друга, да у меня и новостей-то особых не было, о работе моей многого не расскажешь, просто работа в банке, позволяющая как-то перебиться до осени, когда я отправлюсь в Оксфорд, хотя в последнее время, после того как меня перевели из филиала в региональный офис, работа стала поинтереснее, однако Сисили первым делом захотелось узнать о забастовках, американские знакомые рассказывали ей о забастовках то, что прочитали в газетах, сведения она получала из вторых рук, не думаю, что Сисили хотя бы раз в жизни заглянула в газету, однако со слов знакомых у нее создалось впечатление, что вся наша страна того и гляди развалится, английские газеты называли это зимой тревоги нашей, и то сказать, погода стояла жуткая до невероятия, и почти все в стране принимались, кто когда, бастовать, однако картины, которые рисовались газетами, горы неубранного мусора на улицах, трупы, гниющие, поскольку их некому хоронить, в задних помещениях похоронных контор, я сказал ей, что это преувеличение, все далеко не так плохо, но, по-видимому, американцы вбили себе в головы, что Британия вот-вот обратится в коммунистическое государство, что мы на грани экономического краха, что в города придется вводить войска и начнется, по сути, гражданская война, а Сисили в это поверила, я понимаю теперь, почему она временами так раздражала Дуга, Сисили полная его противоположность, наивная, в чем-то легковерная, но ведь это я в ней и люблю, она еще сохранила способность бесконечно дивиться миру, Дуг же эту способность утратил, если вообще когда-либо обладал ею, а я вот могу, ну, скажем, проигрывать Сисили какую-то музыку (хоть и не мою, не думаю, что я снова проделаю это, во всяком случае, не скоро), и музыка поражает ее, так бывает всегда, захватывает, и Сисили принимается жадно выпытывать у меня сведения о композиторе, сведения, которыми только я снабдить ее и могу, наверное, мне это должно льстить, и нечего притворяться, будто это вовсе не часть того, что влечет меня к ней, но вот вам пример, который я вспоминаю, думая о наивности Сисили, если «наивность» — верное слово, «невежественность», так бы назвал это Дуг, да только в этом названии отсутствует невинность, распахнутые в изумлении — ну ладно, в чем хотите — глаза, да, так вот, пример, который приходит мне в голову, — когда я был у нее в Нью-Йорке, то как-то спросил ее, зная, что первый срок президента страны подходит к концу, спросил, популярен ли все еще Картер у американцев, и она меня не поняла, она и представления не имела, о ком я говорю, она прожила в Америке четыре месяца и не знала имени ее президента или, вернее, знала его, слышала, но имя это никакого впечатления в ней не оставило, и при слове «Картер» ей не приходило автоматически в голову, что речь идет о президенте, как не знала она и того, что Джеймс Каллагэн все еще остается премьер-министром Британии, ну да и что с того, хотел бы я знать, так ли уж важно знать, что творится в окружающем мире, какая разница, ведь мы все равно ничего изменить в нем не можем, ничто из сделанного Сисили, или мной, или, уж если на то пошло, Дугом мир никогда не изменит, если, конечно, я не сочиню нечто такое, что перевернет весь ход истории музыки, или поэзия Сисили не тронет сердца целого поколения женщин и не переиначит их жизнь, не сделает ее неслыханно знаменитой, потому что она теперь пишет стихи, она призналась мне в этом лишь несколько недель назад, в одном из писем, и я попросил прислать мне что-нибудь, а она ответила, что по большей части стихотворения эти еще не закончены, но после прислала три или два с половиной, и они были хороши, действительно хороши, говорю это не потому, что люблю ее, она чувствует ритм и слова подбирает правильно, с тщанием, она очень точна, очень строга к себе, когда сочиняет, и потому сочинительство дается ей много лучше, чем актерская игра, и я начинаю думать, что, быть может, как знать, когда-нибудь нам обоим удастся напечатать что-либо или записать, и мы станем прославленной в мире искусства парой, другое дело, что я прославиться не хочу, не хочу, чтобы кто-то из нас обрел славу, я хочу просто жить с ней вместе, вместе работать, достойно делать свое дело, так что лет через сорок (да, теперь я собираюсь поразмыслить о будущем, не для того же заглядываю я в прошлое, чтобы сбежать от настоящего, ведь как говорил Элиот: «Настоящее и прошедшее, вероятно, наступят в будущем, как будущее наступало в прошедшем»,[56] и спасибо вам, мистер Серкис, за то, что научили меня этому, спасибо и тебе, школа «Кинг-Уильямс», познакомившая меня со столь многим, с тем, что отдается ныне эхом и перекликается в моей голове и поддерживает меня, я благодарен вам, правда, что бы я ни говорил и ни думал о вас в настроении менее благодушном), так вот, лет через сорок мы будем жить — где же мы будем жить? — о, конечно, в коттедже, а если точнее, так я всегда мечтал о перестроенной под жилье мельнице, водяной, стоящей на берегу реки, в каком-нибудь сельском краю, в Котсуолде или, может быть, в Шропшире, это все-таки не такое клише, хотя, разумеется, еще одна возможность состоит в том, что мы к тому времени унаследуем «Плас-Кадлан», Глин и Беатрис наверняка отдадут, за сорок-то лет, концы, а кому им еще оставить свой дом? мысль определенно приятная, но сейчас у меня перед глазами стоит водяная мельница, о да, и мы в ней, нам уж, пожалуй, под шестьдесят — а есть у нас дети? господи, начинать думать о детях еще рановато, но, в общем, да, дети у нас есть, вернее, были, потому что к этому времени они уже покинули дом и мы снова живем одни, совсем одни, но даже после сорока лет мы нисколько не устали друг от друга, нам так хочется узнать друг о друге еще больше, и потому отъезд детей, наконец-то свершившийся, для нас он, по правде сказать, облегчение, а кроме всего прочего, он оставил мне больше времени для работы над новой симфонией — это какой же по счету? седьмой, полагаю, или восьмой, — над одним из творений моей поздней, зрелой поры, славу-то и репутацию мне принесла «Бирмингемская», а эти вот поспокойнее, в них больше задумчивости, диссонансов, они намного сложнее, сочинения, которые в еще предстоящие годы признают подлинными шедеврами, разумеется, вместе с моими переложениями поэтических творений Сисили! вот почему я так рад, что она начала писать, теперь мы сможем сотрудничать, это будет подлинное партнерство, партнерство равных, к тому же, проводя в трудах наши дни на мельнице, мы будем принимать вечерами гостей, задавать обеды, которых никто никогда не забудет, люди, скоротавшие вечер в нашем доме, обретут драгоценные воспоминания (отлично, Бенжамен, это и впрямь достижение, ты воображаешь будущее будущего, то, что станут вспоминать, оглядываясь на свое возможное прошлое, люди, которые до него доживут, бог ты мой, у настоящего нет в противоборстве подобного рода ни единого шанса, ни малейшего), да вот возьмем для примера один такой вечер, кто будет у нас в гостях? ну, понятное дело, Филип с женой, и Дуг с женой, и Клэр с мужем, и Эмили с мужем, получается восемь, плюс я и Сисили — десять, хорошее число, но не пригласить ли нам и Стива? почему мы не пригласили Стива? потому ли, что его будущее выглядит после случившегося в прошлом году не столь определенным, и я просто не могу представить себе, кем станет он в ближайшие сорок лет, или есть и другая, не столь благовидная причина, по которой я исключаю Стива из моих нехитрых фантазий? трудно сказать, все это уходит так глубоко, когда мы с Сисили пару дней назад навестили его, я ощутил в нем, по-моему, некоторую враждебность или горечь, и даже при том, что самого-то меня он ни в чем не винит, между нами возникла трещина, небольшая пропасть, если таковые существуют, впрочем, мне следует относиться к подобным вещам с оптимизмом, сегодня я полон надежд, уверен, что все сложится к лучшему, а потому, конечно, с нами будет и Стив, Стив с женой, вот и получится двенадцать, число еще даже лучшее, да, но хватит ли нам спален, чтобы всех разместить? а почему бы и нет, Иисусе Христе, речь же идет о мельнице, уж шесть-то спален мы в ней как-нибудь да устроим, так что все останутся у нас ночевать, мы просидим часов до двух ночи, а прикончив остатки вина, решим оставить уборку на завтра, и я поднимусь вместе с Сисили в нашу спальню, ту, что над самой рекой, так что мы слышим, раздеваясь, ропот текущей воды, и падаем в постель, ужасно усталые, но счастливые, такие счастливые, да и не настолько усталые, чтобы нас не влекло друг к другу, не тянуло притронуться, и дело вовсе не в том, что каждый посланный нам Богом час мы ведем себя будто кролики, в шестьдесят-то с лишком, нет, но желание не притупилось в нас, ничего подобного, начать с того, что мы все еще спим голышом (никаких пижам! никаких стариковских полосатых пижам у меня в этом возрасте не будет), и у Сисили уходит всего секунда-другая на то, чтобы усесться на меня, сегодня я тверд и готов к встрече с ней, совсем как нынешним утром, и она держит меня и вдвигает вовнутрь, в себя, да, да, совсем как нынешним утром, этим утром в спальне моего брата, именно это она и сделала, когда я поднял голову от того места меж ее ног, от Райского Места, в котором я научился столь многому, открыл так много тайн, о, Сисили, твой вкус, будет ли он все таким же, останется ли все между нами таким же по прошествии сорока лет? всегда, Сисили, всегда будь для меня новой, вот и все, о чем мы должны просить друг друга, новой, как этим утром, новой, как твое тело, которого я никогда прежде не видел, а сегодня увидел все, ты отдала мне его, твое прекрасное юное долгое белое стройное тело, когда уселась верхом на меня, а я приподнялся и стал целовать твои груди, и волосы твои упали мне на лицо, волосы, которые ты заставила меня обрезать годы тому назад, они еще у меня, о да, я не выбросил тот пакет, и этим утром твои светлые волосы упали мне на лицо, и во рту у меня оказался не только твой сосок, но и несколько волосков, а ты протянула руку и взяла меня, и потянула к себе, и втиснула внутрь, а после положила другую свою ладонь мне на щеку и привлекла мое лицо к своему, чтобы мы смогли поцеловаться, мягчайшим поцелуем, нежнейшим, ты никогда бы не поверил в такое, и ведь сколько лет я потратил в стараниях вообразить, что ощущаешь, попав внутрь женщины, но так ничего похожего измыслить и не сумел, нет, даже близко не подобрался, потому что тут не одни ощущения, не просто твоя кожа, приникающая к моей, нет, еще и твоя щедрость, податливость, с которой ты даришь мне твое тело (ну конечно, вот оно! — «Теперь мы узнали — щедрость, вот что меня возбуждает»[57]), и, постой, постой, Бенжамен, ты спешишь, спешишь к концу, продержись еще немного, я знаю, ты сможешь, не теряй этот миг, не теряй, не надо, он может никогда не вернуться, скорее, подумай о чем-то другом, ну хоть об этой строке, к примеру, строке, которую ты процитировал, откуда она? знакомая и не знакомая сразу, кажется, будто она всегда сидела у меня в голове, но я уже долгое время не думал о ней, а теперь вдруг понял, да, конечно, «Раздели это с нами», песня «Хэтфилд-энд-Норт», как она к месту, сегодня все к месту, все сходится воедино, но странно, что я так давно не слушал эту пластинку, она была самой любимой из всех, я питал к этой группе слабость с тех пор, как увидел ее в «Барбарелле», четыре уж года назад, вспомнить дату мне не составляет труда, потому что я был там всего за два дня до гибели Малкольма, и это напоминает мне о происшедшем три дня назад, в понедельник, когда я переходил кафедральную площадь, с Сисили, кстати сказать, у меня был обеденный перерыв, а она, пока не настало время вернуться в школу, это еще через неделю-другую, всегда приходит ко мне в этот час, вот мы и шли с ней по площади, держась за руки, теперь мы всегда так ходим, и прошли мимо того человека, он сидел на скамейке и что-то пил из баночки, «Анселл», по-моему, краснолицый, с большой бородой и, если честно, попахивавший, я поначалу принял его за пьянчугу, но после остановился, что-то щелкнуло у меня в голове, я оглянулся, а потом возвратился к нему, и Сисили за собой потянул, — я подошел, взглянул ему в глаза и сказал: «Вы меня не узнаете, правда?» — а он уставился на меня немного остекленевшими глазами, думаю, он часа два уже пил, и ответил: «Нет, не узнаю, а кто ты, мудила?» — и я сказал: «Вы Редж-Косячок», а он: «Кто я, мне известно, ты-то кто такой?» — и я сказал, что мы были с ним в «Барбарелле», давно, вместе с Малкольмом, и когда я назвал это имя, у него словно лампочка погасла в глазах, они потускнели, и сам он обмяк на скамейке, почти обвис, а после снова взглянул на меня и сказал: «Я помню тебя, ты мудила-тори», но только на этот раз веселья в его голосе не было, он помолчал немного, потом поднял голову и вроде как оглядел меня сверху донизу, словно мерку снимал, и сказал: «А ты с тех пор малость подрос, верно?» — я не знал, что на это ответить, я просто познакомил его с Сисили, и он очень мило пожал ей руку и сказал, вежливо и неторопливо, тщательно выговаривая каждое слово, как это иногда делают пьяницы: «Большая честь познакомиться с вами, извините меня, если я скажу что-нибудь неположенное, дело в том, что я неотесанный, дурно воспитанный мудак», а Сисили лишь рассмеялась и заверила его, что ничего дурного он не