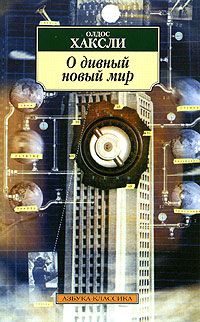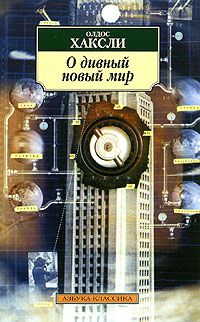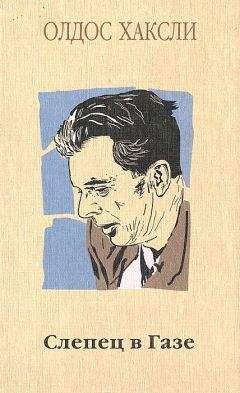Габриэль Маркес - Жить, чтобы рассказывать о жизни
Танцы продолжали устраивать, прибегая к уловкам при согласовании с руководящими органами по общественному порядку, несмотря на то что был введен комендантский час, и когда он был отменен, возродились из своих беспокойств с большей энергией, чем раньше. Особенно в Торисесе, Гетсемани или вблизи Попы, самые веселые районы тех мрачных лет. Достаточно было высунуться из окна, чтобы выбрать тот праздник, который нам нравился больше, и за пятьдесят сентаво плясать до рассвета под самую горячую музыку Кариб, усиленную оглушительным шумом громкоговорителей. Партнерши, которые любезно приглашали нас, были теми же ученицами, которых мы видели на неделе на выходе из школы, носили одинаковую форму на воскресную мессу и танцевали как наивные девицы под бдительным взглядом сопровождавших их тетушек или прогрессивных матерей.
В одну из таких ночей охоты на крупного зверя я шел по Гетсемани, который был во времена колонии районом рабов, когда я признал как пароль и отзыв сильный шлепок по спине и громкий вопль:
— Бандит!
Это был Мануэль Сапата Оливелья, коренной обитатель улицы де ла Мала Крианса, где жила семья бабушки и дедушки его африканских предков. Мы виделись в Боготе посреди грохота 9 апреля, и наше первое изумление в Картахене было снова видеть друг друга живыми. Мануэль, кроме того, что был врачом из человеколюбия, был и романистом, и активным политиком, и продвигал карибскую музыку, но его более очевидным призванием было пытаться решить проблемы всего мира. Мы не обменялись пережитым нами со зловещей пятницы и нашими планами на будущее, как тут мне предложили попробовать себя в журналистике. Месяц назад либеральный руководитель Доминго Лопес Эскауриаса основал ежедневное издание «Эль Универсаль», главным редактором которого стал Клементе Мануэль Сабала. Я слышал, что о нем говорили не как о журналисте, а как об эрудите во всех музыках и бездействующем коммунисте. Сапата Оливелья настаивал, чтобы мы пришли к нему, потому что знал, что он ищет новых людей, чтобы увлечь за собой примером творческой журналистики против косности и порабощения теми, кто правит в стране, особенно в Картахене, которая была тогда одним из самых отсталых городов.
Было предельно ясно, что журналистика не была моим ремеслом. Я хотел бы быть особенным автором, но вместо этого подражал другим авторам, которые не имели ничего общего со мной. Таким образом, в те дни я находился в процессе размышления, потому что после трех первых моих напечатанных в Боготе рассказов, так высоко оцененных Эдуардо Саламеей и другими критиками и друзьями, хорошими и плохими, я чувстзовал себя в тупике.
Сапата Оливелья возражал против моих доводов и настаивал, что журналистика и литература, в конце концов, сводятся к одному, и утверждал, что сотрудничество с «Эль Универсаль» может решить мою участь трижды: распорядиться моей жизнью достойным и полезным образом; попасть в профессиональную среду, которая сама по себе была важной; и работать с Клементе Мануэлем Сабало, лучшим учителем журналистики, которого себе можно представить, робость, которую у меня вызвало такое простое умозаключение, смогла спасти меня от беды. Но Сапата Оливелья не умел терпеть поражение и назначил мне встречу на следующий день в пять часов в доме 381 по улице Сан Хуан де Дьос, где находилось издание.
Я спал эту ночь беспокойно. На следующий день во время завтрака я спросил у хозяйки гостиницы, где находится улица Сан Хуан де Дьос, и она пальцем показала мне ее из окна.
— Это прямо здесь, — сказала она, — в двух кварталах.
Там находился офис «Эль Универсаль», напротив огромной стены из роскошного камня церкви Сан Педро Клавера, первого святого Америки, чье нетленное тело хранилось уже более ста лет под главным престолом. Это было старое колониальное здание с двумя достройками, прекрасно выполненными республиканцами, и с двумя большими дверями и несколькими окнами, сквозь которые было видно все, что и было изданием.
Но настоящий ужас меня охватил за балюстрадой из необработанного дерева, приблизительно в трех метрах от окна: пожилой одинокий мужчина в костюме из белого репса, в пиджаке и при галстуке, с очень темной кожей, с жесткими и черными волосами индейца, писал карандашом на старом письменном столе с кучей бумаг. Я прошел обратно в вынужденном парализующем состоянии, и еще два раза, и в четвертый раз, как и в первый, у меня не было ни малейшего сомнения, что тот человек был Клементе Мануэлем Сабало, таким же, каким я и представлял его, но более устрашающим. Сильно напуганный, я принял простое решение не явиться в тот день на встречу с человеком, которого было достаточно увидеть через окно, чтобы понять, что он знал о жизни и своих обязанностях слишком много. Я вернулся в гостиницу и нашел удовольствие в еще одном из моих обычных дней без угрызений совести, на кровати, лежа на спине с «Фальшивомонетчиками» Андре Жида и куря без остановки. В пять часов вечера дверь дормитория задрожала от глухого удара, как от выстрела винтовки.
— Идем, черт возьмиі — крикнул мне от входа Сапата Оливелья. — Сабала ждет тебя, и никто в этой стране не может позволить себе роскошь оставить его в дураках.
Начало было более трудным, чем можно было себе представить в кошмарном сне. Сабала принял меня, не зная, что делать, куря без остановки с беспокойством, усугубленным жарой. Он показал нам все. С одной стороны располагались дирекция и администрация, с другой — редакционная комната с тремя письменными столами, еще незанятыми в этот ранний час, и в глубине печатная машина, пережившая уличные беспорядки, и два уникальных линотипа.
Меня очень удивило, что Сабала читал три моих рассказа, и заметка Саламеи ему показалась правильной.
— А мне нет, — сказал я ему. — Рассказы мне не нравятся. Я их написал, движимый немного бессознательными порывами, и, прочитав их в печатном виде, я не знал, куда идти дальше.
Сабала втянул глубоко дым и сказал Сапате Оливелье:
— Это хороший признак.
Мануэль тут же воспользовался моментом и сказал, что я мог бы быть ему полезен в газете в мое свободное от университета время. Сабала сказал, что он подумал так же, когда Мануэль попросил у него назначить мне встречу. Доктору Лопесу Эскауриасе меня представили как возможного сотрудника, о котором ему рассказали прошлым вечером.
— Это было бы великолепно, — сказал главный редактор со своей вечной улыбкой кабальеро старой закалки.
Мы ни к чему не пришли, но маэстро Сабала попросил вернуться на следующий день, чтобы представить меня Эктору Рохасу Эрасо, поэту и художнику из лучших, и его блестящему колумнисту. Я не сказал ему, что он был моим преподавателем рисунка в колледже Святого Иосифа, из-за застенчивости, которая сейчас мне кажется необъяснимой. Выйдя оттуда, Мануэль прыгал от радости на площади де ла Адуана, напротив грандиозного фасада Сан Педро Клавера, и воскликнул с преждевременным ликованием:
— Ты видишь, зверюга! Дело сделано!
Я ответил ему сердечным объятием, чтобы не разочаровывать, но уходил я с серьезными сомнениями по поводу моего будущего. Тогда Мануэль спросил меня, как мне показался Сабала, и я ему ответил правду. Он мне показался ловцом душ. И это, возможно, было определяющей причиной, почему молодежные группы, которые питались его разумом и его осмотрительностью. Я заключил, без сомнения, с притворной оценкой преждевременного старика, что, пожалуй, подобное поведение и было тем, что ему мешало играть решающую роль в жизни страны.
Мануэль позвонил мне вечером, умирая со смеху от разговора, который у него произошел с Сабалой. Тот говорил обо мне с большим восторгом и повторил свою убежденность, что это будет важное приобретение для передовой страницы, и главный редактор думает так же. Но истинная причина его звонка была в том, чтобы рассказать мне, что единственное, о чем беспокоился маэстро Сабала, было то, что моя ненормальная робость может стать большим препятствием на моем жизненном пути.
И если в последний момент я решил вернуться в газету, то только потому, что на следующее утро один приятель по комнате открыл мне дверь душа и сунул под нос страницу издания «Эль Универсаль». Там была ужасная заметка о моем приезде в город, которая меня рекомендовала как писателя, до того как я им стал, и без пяти минут журналиста, хотя прошло меньше двадцати четырех часов, как я впервые переступил порог издания. Мануэль мне тут же позвонил по телефону, чтобы поздравить, я упрекнул газету, не скрывая ярости от такой бесцеремонности, как могли написать нечто настолько безответственное, не поговорив предварительно со мной. Тем не менее что-то поменялось во мне, и, пожалуй, навсегда, когда я узнал, что заметку написал собственной рукой маэстро Сабала. Поэтому я натянул брюки и вернулся в редакцию, чтобы поблагодарить его. Но он едва обратил на это внимание. Представил меня Эктору Рохасу Эрасо, одетому в военные брюки и рубашку с амазонскими цветами, неуемными словами, которые он выстреливал громовым голосом, не сдаваясь в разговоре, пока не поймает свою добычу.