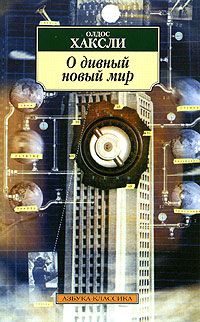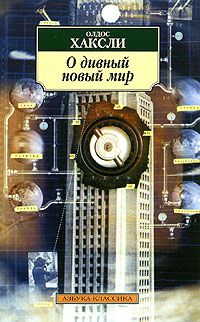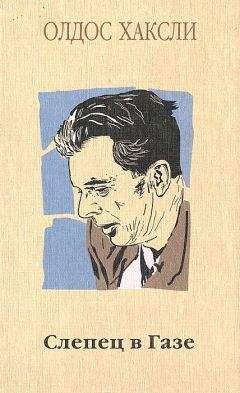Габриэль Маркес - Жить, чтобы рассказывать о жизни
— Руки вверх!
Я облегченно поднял руки, уверенный, что это были наконец мои друзья, и увидел двух неотесанных, в лохмотьях полицейских, которые навели на меня свои новые ружья. Они хотели знать, почему я нарушил комендантский час, который начался два часа назад. Я и не знал, что он был введен в прошлое воскресенье, как они мне сообщили, но я не слышал ни звука сигнальной трубы, ни перезвона колоколов, ни какого-то другого знака, который бы мне позволил понять, почему на улицах никого нет.
Полицейские были скорее нерадивыми, чем сочувствующими, когда увидели мои удостоверяющие личность документы, пока я им объяснял, почему я находился там. Они мне их вернули, не глядя на них. Они спросили, сколько у меня с собой денег, и я им ответил, что меньше четырех песо. Тогда более решительный из двоих попросил у меня сигарету, и я показал ему потушенный окурок, который думал докурить перед сном. Он отнял его и выкурил до конца, пока не обжег пальцы. Через некоторое время они провели меня за руку по улице, больше из-за страстного желания курить, чем из-за требования закона, в поисках открытого места, чтобы купить сигареты поштучно за один сентаво. Ночь стала прозрачной и прохладной под полной луной, и тишина казалась невидимой материей, которой можно было дышать, как воздухом. Тогда я понял то, что нам столько раз рассказывал папа, а мы ему не верили, что он пробовал скрипку рано утром в тишине кладбища, чтобы ощущать, как его любовные вальсы распространялись по всему пространству Карибов.
Уставшие от бесполезных поисков штучных сигарет, мы вышли из крепостной стены до каботажной пристани сразу за общественным рынком, живущей своей жизнью, где пришвартовывались шхуны из Курасао, Арубы и других Малых Антильских островов. Это было полуночное развлечение самых веселых и полезных людей города, которые имели право на пропуск в комендантский час в связи с особенностями их службы. Они пировали до рассвета в таверне под открытым небом по хорошим ценам и в лучшей компании, поэтому там останавливались не только ночные служащие, но и все те, кто хотел, когда пойти было уже некуда. Место не имело официального названия и называлось так, как менее всего ему подходило: Ла Куева, что означает Пещера.
Полицейские пришли, как к себе домой. Было очевидно, что посетители, которые сидели за столиком, знали их уже давно и были рады их компании. Было невозможно выяснить их имена, потому что они все называли друг друга школьными прозвищами и разговаривали криками, не понимая друг друга и не глядя ни на кого. Они были в рабочей одежде, за исключением одного человека лет шестидесяти с белоснежной головой и в старомодном смокинге рядом с одной женщиной в возрасте, но все еще красивой, в поношенном костюме с блестками и крупными подлинными драгоценностями. Ее присутствие здесь могло быть ярким свидетельством ее положения, потому что очень немногим женщинам мужья разрешали появляться в местах с такой дурной славой.
Из-за их развязности, креольского акцента и бесцеремонности в обращении со всеми можно было бы подумать, что они туристы. Позже я узнал, что это старая супружеская чета из Картахены, сбившиеся с пути, которые нарядно одевались под любым предлогом поужинать вне дома, и в тот вечер гостеприимные хозяева нашли их спящими, когда рестораны закрылись из-за комендантского часа.
Именно они пригласили нас поужинать. Они показали нам другие места в кабачке, и мы трое сели, немного стесненные. С полицейскими они также обращались бесцеремонно, как с прислугой. Один был важный и непринужденный и вел себя с непринужденностью ребенка за столом. Другой казался унылым, не интересовавшимся ничем, кроме еды и курения. Я, больше из скромности, чем из вежливости, заказал меньше блюд, чем они, и когда я осознал, что не утолил и половину моего голода, другие уже закончили ужин.
Хозяина и единственного слугу «Ла Куевы» звали Хосе Долорес, это был негр, почти подросток, с обременительной красотой, завернутый в чистые мусульманские мантии и с живой гвоздикой в ухе. Но больше всего в нем выделялась чрезмерная сообразительность, которую он умел использовать безо всяких оговорок, чтобы быть счастливым и сделать счастливыми других. Было очевидно, что ему недоставало очень немногого, чтобы быть женщиной, и о нем небеспочвенно шла молва, что он состоит в любовной связи с мужчиной. Никогда и никто не пошутил над его особенностями, потому что он обладал обаянием и быстротой реакций, благодаря которым он никогда не оставил любезность, не отблагодарив, и обиду, не отплатив. Он один делал все, от готовки в точности того, что нравилось каждому клиенту, до жарки кусков зеленого банана одной рукой и приведения в порядок счетов другой, ему не требовалась большая помощь, кроме подспорья, которое оказывал ему ребенок примерно шести лет, называвший его мамой. Когда мы распрощались, я почувствовал себя потрясенным этим открытием, но я не представлял, что это место непослушных полуночников станет одним из самых незабываемых в моей жизни.
После ужина я сопровождал полицейских, пока они заканчивали свой запоздалый ночной обход. Луна висела золотой тарелкой на небе. Морской ветерок начинал подниматься и увлекал за собой из самого далека обрывки музыки и далекие крики гуляний. Но полицейские знали, что в бедных кварталах никто не отправлялся в постель из-за комендантского часа, а устраивали танцы каждую ночь в разных домах, не выходя на улицу до рассвета.
Когда пробило два часа, мы зашли в гостиницу, не сомневаясь, что мои друзья приехали, но в этот раз сторож без снисхождения послал нас к черту, из-за того, что его разбудили просто так. Полицейские тогда поняли, что мне негде спать, и решили отвести меня в свою казарму. Это мне показалось такой наглой издевкой, что я потерял хорошее настроение и отпустил дерзкое высказывание. Один из них, пораженный моей ребячливой реакцией, поставил меня на место стволом винтовки в желудок.
— Перестань валять дурака! — сказал он, умирая со смеху. — Согласись, что ты все еще находишься под арестом из-за нарушения комендантского часа.
Так я и проспал в камере на шестерых на циновке, пропитанной чужим потом, мою первую счастливую ночь в Картахене.
Добраться до центра города было намного проще, чем выжить в первый день. Две недели назад я урегулировал отношения с моими родителями, которые безоговорочно одобрили мое решение жить в мирном городе. Хозяйка гостиницы, сожалевшая, что я попал на целую ночь в тюрьму, поместила меня с более чем двадцатью студентами в большом бараке, недавно построенном на крыше ее прекрасного колониального дома. У меня не было причин для жалоб, потому что это была карибская копия дормитория Национального лицея и стоила меньше, чем пансион в Боготе со всем его содержимым.
Поступление на юридический факультет решилось за один час вступительным экзаменом секретарю, Игнасио Велесу Мартинесу, преподавателю политической экономии, чье имя я так и не смог стереть из глубин моей памяти. Как обычно, мероприятие проходило в присутствии всего второго курса в полном составе. Начиная с вступительного слова, мое внимание привлекли ясность суждения и правильность речи двух преподавателей в этом регионе, известном в глубине страны словесной непринужденностью. Первым вопросом по выпавшему билету была Гражданская война в Соединенных Штатах, о которой я знал немного меньше, чем ничего.
Жаль, что я еще не прочитал девять североамериканских романистов, книги которых только начали поступать к нам, но мне повезло, что доктор Белес Мартинес начал со случайного сообщения о «Хижине дяди Тома», которую я знал хорошо со времен бакалавриата. Я на лету подхватил. Оба преподавателя, вероятно, испытали приступ ностальгии, потому что шестьдесят минут, выделенных на экзамен, мы соединились в эмоциональном исследовании позора рабовладельческого строя на юге Соединенных Штатов. Так что то, что представлялось мне в виде русской рулетки, оказалось увлекательным разговором, который заслужил хорошей оценки и некоторых теплых аплодисментов.
Так я поступил в университет, чтобы закончить второй курс юридического факультета, с условием, которое так никогда и не было выполнено, — сдачи восстановительных экзаменов по одному или двум предметам, по которым так и остались хвосты на первом курсе Боготы. Некоторые однокурсники восхищались моей способностью приручать вопрос, потому что среди них была определенная сплоченность в пользу творческой свободы в университете, погрязшем в академической строгости.
Это было моей одинокой мечтой еще с лицея, не из-за безосновательного неприятия, но как моя единственная надежда сдать экзамены, не уча. Однако те же самые, кто провозглашал независимость точки зрения в аудиториях, могли не больше чем подчиниться судьбе и подниматься на эшафот экзаменов с атавистическими талмудами колониальных текстов, выученных наизусть. К счастью, в реальной жизни были преподаватели, закаленные в искусстве поддержать пятничные танцевальные вечеринки, несмотря на опасность наказания, каждый день все более резкого под прикрытием осадного положения.