Сон цвета киновари. Необыкновенные истории обыкновенной жизни - Цунвэнь Шэнь
Когда я приобрел привычку пропускать занятия, меня заботило только одно — как бы сбежать из школы.
Если невозможно было пойти в горы из-за плохой погоды, то я вместо уроков в одиночку отправлялся в храмы за городом. В крытых галереях перед каждым храмом всегда были люди, которые скручивали веревки, плели бамбуковые циновки, делали благовонные свечи, а я наблюдал, как они работают. Если кто-то играл в шахматы — я смотрел, как играют в шахматы. Если кто-то дрался — я смотрел, как дерутся. Даже когда кто-то ссорился, я все равно смотрел, как обмениваются ругательствами и как разрешаются потом конфликты. Прогуливая, я отправлялся туда, где меня никто не знает, и предпочитал храмы подальше от города. Как посторонний, я слушал все, что говорилось, наблюдал за всем, что происходило, а когда нечего было слушать и не на что смотреть, придумывал способ вернуться домой.
В школу я должен был брать корзинку с книгами. Корзинка была тяжелая, и странно было бы, прогуливая занятия, таскать ее за собой. Так делали только глупые дети — а их было немало. Сбежав из школы, они слонялись без дела, и одного взгляда на них было достаточно, чтобы взрослые все поняли и сделали им внушение: «Эй, прогульщик, марш домой! Будет тебе трепка! И поделом, нечего здесь шататься». А если корзинки не было, нравоучений можно было избежать. Поэтому мы нашли способ прятать корзинки с книгами в храме Бога земли; хотя там не было смотрителя, о своих вещах можно было не беспокоиться. Мы, дети, искренне уважали Бога земли и доверяли его деревянному идолу заботу о наших корзинках в его алтаре. Одновременно таких корзинок набиралось штук пять-восемь, на обратном пути каждый забирал свою, и никто не брал по ошибке чужую. Не припомню, сколько раз оставлял там свою корзинку, но почти уверен, что делал это чаще, чем любой другой мальчишка.
Если учителя или домашние обнаруживали, что мы прогуливаем занятая, нас наказывали и в школе, и дома. Учитель заставлял нас придвигать скамьи к ритуальной табличке с именем Конфуция и наклоняться, подставляя тело под бамбуковую палку. После такого наказания надо было еще поклониться этой табличке, чтобы выразить раскаяние. Часто нас наказывали тем, что ставили на колени до тех пор, пока не выгорит курительная свеча. Стоя на коленях в углу класса, я вспоминал случаи из прошлого, и воображение, как на крыльях, уносило меня к самым захватывающим событиям моей жизни. В зависимости от времени года я вспоминал то пойманного и бьющегося над водой окуня, то небо, полное воздушных змеев, то иволгу, поющую в холмах, то усыпанные фруктами деревья. Увлеченный этими видениями, я забывал о боли и не замечал времени. Таким образом я не испытывал чувства обиды. Я не думал, что со мной обошлись несправедливо. Напротив, я был благодарен этим наказаниям, которые позволяли мне, отрезанному от природы, тренировать свое воображение.
Дома, естественно, об этом не подозревали и винили учителя за чрезмерную снисходительность; поэтому меня снова перевели в другую школу. Конечно, я не мог протестовать против этого. Сейчас, оглядываясь назад, я благодарен своим родителям, потому что прежняя школа была слишком близко от дома, и я частенько ходил обходным путем, но это не всегда было интересно, а если я заходил так далеко, что опаздывал, — мне нечего было придумать в свое оправдание. Новая школа находилась очень далеко от дома, идти в обход было не нужно, мой путь и так пролегал через множество интересных мест. По дороге в новую школу была лавка игольщика, перед входом в которую всегда сидел, склонившись над иглами, старик в огромных очках. Еще я проходил мимо лавки, где продавали зонтики: двери нараспашку, дюжина подмастерьев трудится не покладая рук — увлекательное зрелище. Потом был обувной магазин, где в жаркие дни толстый сапожник с клочками волос на грязном животе пришивал подошвы к ботинкам. Была и цирюльня, в ней сидел какой-нибудь посетитель с деревянной чашечкой в руках и, замерев, ждал, пока его побреют. В красильной мастерской здоровенные рабочие, мяо по национальности, оседлав каменный пресс в форме люльки, раскачивали его, прижимая ткань. Еще были три лавки, в которых мяосцы делали соевый творог тофу. Там стройные белозубые женщины в ярких тюрбанах тихо пели песни, убаюкивая привязанных за спинами младенцев, и одновременно яркими медными черпаками разливали соевое молоко. Я проходил мимо мастерской по производству соевой муки, и издалека уже был слышен скрип жернова, вращаемого мулом. Вся крыша мастерской была устлана белой лапшой, которую сушили на солнце. Мой путь лежал мимо мясных лавок, и я видел, как куски мяса только что заколотых свиней все еще подрагивали. А еще я проходил мимо лавки, где делали погребальную утварь и сдавали в аренду свадебные паланкины. Там были фигуры белолицего У-чана [178] и Яньло-вана [179] с синим лицом, изображения рыб и драконов, паланкины, картинки с золотым отроком и яшмовой девой, и было сразу понятно, сколько в этот день свадеб и похорон, что из заказанного уже сделано, какие новые образцы появились. Задержавшись подольше, можно было увидеть, как изделия покрывают позолотой и раскрашивают. Я мог стоять там часами.
Я любил наблюдать за всем этим, и я многому научился у этих людей.
Каждый день я отправлялся в школу, как обычно, с бамбуковой корзиной и потрепанными книжками в ней. Дома меня заставляли обуваться, но как только я выходил за ворота, я тут же скидывал ботинки, брал их в руки и шел босиком. Что бы ни случилось, у меня всегда был запас времени, и для развлечения я шел в школу каждый раз по новому маршруту. Когда мой путь лежал через западную часть города, я проходил мимо тюрьмы, из которой рано утром выводили преступников в кандалах и через ямынь строем вели на работы в каменоломню. Иногда я шел мимо площадки для казней, и, если тела убитых накануне не были убраны, то видел, как бродячие собаки тащили их к ручью; я тоже шел туда посмотреть на разорванные собаками останки, подобрав камешек, стучал по грязному черепу или тыкал в него палкой, чтобы посмотреть, будет ли он двигаться. Я заранее набирал в корзинку с книгами камни, чтобы при необходимости отбиваться от бродячих собак, деливших добычу, и просто наблюдал издалека, прежде чем идти дальше.
Так я добирался до ручья. Если в это время он был полноводным, я закатывал штаны и, одной рукой придерживая корзинку с книгами на голове, а другой — штаны, брел вниз по течению, вдоль основания городской стены, до тех пор, пока вода в ручье не доходила до колен. Школа находилась недалеко от северных ворот города, я же выходил из города через западные ворота, а входил в южные, чтобы дальше идти прямо по главной улице. На речной отмели у южных ворот я смотрел, как забивали быков, и, если везло, видел, как падали эти добрые и покладистые домашние животные. Поскольку я наблюдал это каждый день, я скоро знал всю процедуру и расположение внутренностей у быка. Немного дальше, на боковой улице, располагались лавки, где продавали бамбуковые циновки; перед входом на стульчиках сидели старики, которые дни напролет стальными ножами с толстым обухом вырезали бамбуковые планки, а рядом на корточках сидели два мальчика и плели циновки (точно так же делали циновки у ворот моей школы, и мне кажется, что я знаю об этом ремесле больше, чем о писательстве). Была на пути и кузница с железными печами и мехами, которые занимали все помещение. Двери всегда были широко распахнуты, и если прийти пораньше, то можно было увидеть мальчика, раздувающего мехи, — он наваливался на них всем телом, те издавали протяжный рев, из печи вырывался поток едкого дыма и красные языки пламени. Когда раскаленное темно-красное железо вытаскивали и клали на наковальню, мальчишка начинал энергично работать молотом с тонкой рукоятью, широко замахивался из-за спины и обрушивал его перед собой, выбивая искры при каждом ударе. Иногда он ковал нож, иногда — сельскохозяйственный инструмент. Я наблюдал, как он стамеской снимал с ножа окалину, прежде чем опустить его в воду, или добавлял сталь в ковкое железо. Время шло, и я получил точные знания о процессе ковки любого металлического изделия. А еще на боковой улице была маленькая закусочная. Перед дверью стоял большой деревянный цилиндр, набитый бамбуковыми палочками для еды; на прилавке для привлечения покупателей были выставлены глиняные чашки с соленой рыбой и овощами. Казалось, они шептали: «Съешь меня! Съешь меня! Вкусно!» Каждый раз, вдоволь насмотревшись, я чувствовал себя, как в поговорке: «Как прошел мимо мясной лавки, так в животе и заурчало».

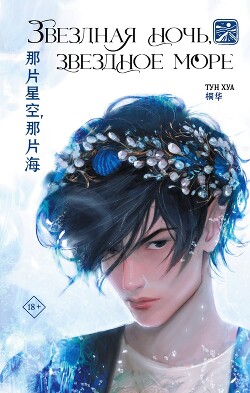

![Система [Спаси-Себя-Сам] для Главного Злодея (ЛП) - Мосян Тунсю](/uploads/posts/books/280201/280201.jpg)
