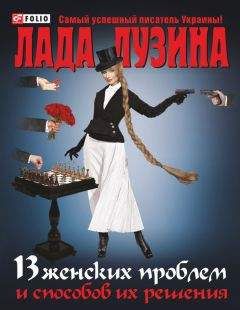Владимир Войнович - Дваплюсодин в одном флаконе (сборник)
Я портретов его не держал, рукописей не перепечатывал, но распространял его сочинения активно среди московских знакомых и возил своим родственникам в провинцию.
Еще во время дела Синявского и Даниэля
я заметил, что советская власть в поисках поддержки ее действий против неугодной ей личности согласна на малое. Скажите про опального человека что-нибудь плохое, что вы о нем знаете или думаете, что он антисоветчик, ненавидит все советское, еще лучше – все русское, а еще лучше – самое обидное, – что пишет плохо. Говорите так где-нибудь, хоть на чьей-нибудь кухне, шепотом, и это будет до нужных ушей донесено, замечено и отмечено. Если вы жертву режима осуждаете, хотя бы морально, за какие-то проступки или недостатки характера, то тем самым уже, хотя бы частично, признаете и уголовные обвинения против него. Обороняясь от соблазна согласиться с властью, пусть даже в мелочах, я давил в себе все сомнения, которые все-таки во мне возникали.
В то время, когда травили Солженицына, я и сам был в числе гонимых. Меня преследовали не так шумно, но вполне зловеще. Втихомолку расправиться с человеком всегда легче, чем на глазах, тем более на глазах всего мира. Василий Гроссман про себя говорил, что его задушили в подворотне. Угроза быть задушенным в подворотне (может быть, даже буквально) висела и надо мной. В 1968 году я получил в Союзе писателей первый строгий выговор с предупреждением, в 1970-м – второй с последним предупреждением. Мои книги были запрещены. Обвинения, против меня выдвигавшиеся, по тогдашним меркам и при моей еще малой известности вполне «тянули» на большой лагерный срок. И именно в этот период я неоднократно и резко выступал в защиту Солженицына, пользовался любым случаем, чтобы сказать публично, что он великий писатель, великий гражданин, и только это и, разумеется, без намека на критику. При этом сомнения мои накапливались, а после прочтения «Архипелага ГУЛАГ» умножились и окрепли, но, правда, тоже не сразу. Потому что как раз в это время над автором разразилась гроза.
В сентябре 1973 года кагэбэшники в Ленинграде схватили одну из добровольных помощниц Солженицына – Елизавету Воронянскую, заставили выдать хранившуюся у нее рукопись «Архипелага ГУЛАГ», после чего Воронянская тут же повесилась. Рукопись была конфискована. Солженицын сделал заявление иностранным корреспондентам, начался опять шум на весь мир, скандал, который власти, не соображая, что творят, раздували чем дальше, тем больше. 13 февраля 1974 года на пике скандала Солженицын был арестован. Как раз в это время пришла мне повестка на мое исключение из Союза писателей, которое должно было состояться ровно неделей позже (20 февраля). В числе наиболее тяжких вин перед народом значились публикация «Чонкина» за границей, мои сатирические письма, выступления в защиту разных людей, и особенно – в защиту «литературного власовца» Солженицына. Мне самому грозила судьба невеселая. Но арест Солженицына настолько меня возмутил и взволновал, что переживания по поводу собственных дел у меня отошли на второй план. Я включал радио, перескакивал с волны на волну и испытывал тревогу, как при начале войны. Я не сомневался, что арест Солженицына – это только начало, дальше они с ним сделают что-то ужасное. Может быть, даже убьют. А затем повторится у нас в полном объеме 37-й год.
Это было не только мое ощущение. Мир захлебывался от негодования. В эфире на всех языках бесконечно повторялось одно имя: Солженицын, Солженицын, Солженицын… В Европе готовились массовые демонстрации и митинги у советских посольств. Советских представителей забрасывали гнилыми помидорами и тухлыми яйцами. Раздавались призывы жителей западных стран к своим правительствам порвать все отношения с Советским Союзом. И вдруг – неожиданный потрясающий поворот сюжета. Примерно как в фильме Спилберга «Список Шиндлера», когда в бане лагеря уничтожения евреев из душевых леек на голых людей вытекли не клубы смертоносного газа, а струи теплой воды. Продержав в Лефортове одну ночь, арестанта, живого, здорового, в казенной пыжиковой шапке, доставили на Запад прямо под ослепительный свет юпитеров. Некоторые потом завистливо иронизировали, что высылка Солженицына была гениально разработанной пиаровской акцией. Но она не была, а оказалась, из иронистов мало кто решился бы на подобный «пиар» без гарантированного хеппи-энда.
Солженицын всерьез шел на смерть, и (теперь можно и пошутить) не его вина, что его не убили. Но небывалый шум вокруг его имени отвлек внимание от других, не столь громких имен, чем гэбисты вряд ли упустили возможность воспользоваться. Я говорю не о себе, а о тех, кто был в гораздо худшем, чем я, положении. Солженицына за то, что он написал, выслали на Запад, а людям неизвестным только за чтение его книг давали тюремные сроки. Я был более защищен, чем эти люди, но мне мои преследователи говорили, что я не Солженицын и напрасно надеюсь, что со мной будут «чикаться» так же. Я не надеялся, и меня ровно через неделю исключили из Союза писателей и дальше семь лет пытались расправиться со мной «по-тихому». Поняли наконец, что шумная травля привлекает к жертве большое внимание и делает ее до некоторых пределов менее уязвимой.
По силе воздействия на умы «Архипелаг ГУЛАГ»
стал в один ряд с речью Хрущева на ХХ съезде КПСС. Что бы ни говорили о художественных достоинствах «Архипелага», сила его не в них, а в приводимых фактах. И в страсти, с которой книга написана. Говорят, что в литературе иногда страсть может стать подменой таланта и даже казаться им. Сочинения Солженицына можно очень условно разбить на три категории: 1) много таланта, а страсть в подтексте; 2) страсти больше, чем таланта; и 3) ни того, ни другого не видно.
«Архипелаг ГУЛАГ» – книга страстная, появилась в такой момент и в таких обстоятельствах, когда миллионы людей оказались готовы ее прочесть, принять и поверить в то, что в ней говорилось. Бернарду Шоу врач-окулист однажды сказал, что у него нормальное зрение. «Такое же, как у большинства?» – спросил Шоу. «Нет, – сказал врач, – не такое. Нормальное зрение у людей встречается очень редко». И это правда. Большинство советских граждан, существуя в кошмарном тоталитарном террористическом государстве, были уверены, что живут в самой счастливой и свободной стране, «где так вольно дышит человек». Для того чтобы избавиться от своих иллюзий, им нужен был кто-то, кто бы (сначала Хрущев, а потом Солженицын) открыл им глаза на то, чего они сами не видели.
Эта книга перевернула сознание многих.
Но не всех. Мое сознание осталось не перевернутым. Сначала я был взволнован мировым шумом и угрозой, нависшей над автором, но угроза прошла и шум утих, и я стал думать: а что нового для меня в этом сочинении? Художественных открытий, о которых говорили на каждом шагу, я в нем не нашел. Судьбы разных людей описаны неплохо, но главное, что в них впечатляет, – сами судьбы, а не сила изображения.