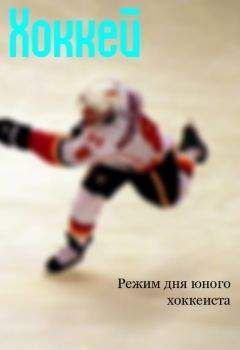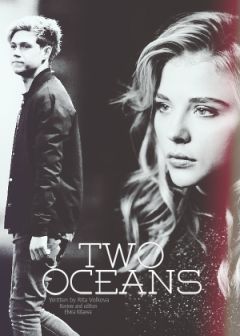Елена Сазанович - Всё хоккей
Дворник с удивлением на меня посмотрел.
– Может быть… Только мне он показался потом страшным, сгорбленным, рогатым, про шарф не помню, но белые перчатки были. И вот тогда я решил бесповоротно сжечь эти бумаги. Но долго медлил. Не просто сжечь надежды на сытое будущее. Проще, наверное, сжечь душу. Вот чуть она и не оказалась на свалке, чуть я ее и не сжег.
Дворник протянул мне папку.
– Здесь и моя квартира, и мои деньги, и тепленькое местечко. Но что еще здесь, я думаю, вы знаете. Или стоит посмотреть? Не за себя говорю. Я для себя выбор сделал. И поверьте, дворником сегодня быть гораздо лучше, чем философом. Во всяком случае – честнее. И старик это понимал. Я говорю за человечество. Раз столько за эти бумаги предлагают…
– Старик заклинал вас сжечь папку. И вы дали клятву. И не только вас просит об этом старик, но и тот человек, кто ему это доверил.
– Ну, тогда нет вопросов. Только сделайте вы это. Вам это проще. Вам золотые горы за папку не предлагали.
Я взял из рук дворника бумаги, чтобы немедленно бросить их в костер, но неожиданно меня кто-то сзади ударил по голове, и я от неожиданности и от боли слегка обмяк, стал плавно опускаться на землю. Папка выпала из моих рук и мне показалось, словно сквозь пелену, что ее перехватили руки в белых перчатках. И я отключился. Пожалуй, я вскоре пришел в себя. Потому что они еще дрались. В один момент дворник со всей силы ударил Макса в живот, схватил папку и тут же бросил ее в огонь.
Макс, корчась от боли, пытался дотянуться до живых, еще белых листов, которые беспощадно слизывал своим пламенным языком костер, он обжигал руки, белый шарф загорелся. И впервые я увидел, как он плачет. Возможно, он вообще плакал впервые.
– Что вы наделали! – закричал он перекошенным ртом. – Вы же! Вы совершили преступление! Вы… вы… вы еще меня вспомните! Вас проклянет мир!
Из его побелевших уст в наш адрес сыпались проклятия, грязные ругательства, даже мат. Вообще я не узнавал этого утонченного чистюлю Макса. Перед нами был злобный уродливый очень маленький человек, заляпанный грязью, с черным от золы лицом. Уже не в белых перчатках. Его руки были обожжены и казалось, в темноте, что они в крови.
– Вас проклянет мир! – на всякий случай он заручился поддержкой всего мира.
– Мир сам решит, кого проклясть, – я помог Максу подняться с земли.
Он не сопротивлялся. Он слишком был слаб. И нуждался в помощи. Особенно его руки. Дворник попытался ему помочь, завести в квартиру, оказать первую помощь. Но тот наотрез отказался.
– Пошли вы все к черту! Без вас обойдусь!
Я в спешном порядке вызвал такси. И Макс так же ругаясь и осыпаясь проклятиями, укатил восвояси.
А мы с философом-дворником долго смотрели на затухающий костер. И молчали. Я думал о том, что гениальное открытие ученого легко превратилось в золу. В золу превратились его мысли, идеи, бессонные ночи, его время, которое он посвятил своей цели. В золу превратилась и его цель. Правильно ли мы поступили? Впрочем, это его было завещание. Завещания не оспариваются. Даже историей. Смирнов был ученый, и лучше нас знал, как правильно поступить. Думаю, на сей раз он поступил верно.
О чем думал дворник, я не знал. Возможно о богатой квартире, о работе на кафедре, об ужине в ресторане и загорелых девушках на Канарах. Как знать.
Пошел дождь и окончательно затушил костер. Вот и все. Хотя, пожалуй, Маслов был прав. Идеи не сжигаются. Но, возможно, Смирнов не хотел, чтобы эта идея проходила под его именем. Не хотел быть причастности к уничтожению человеческой памяти, совести, проще говоря, души.
Дворник вдруг протянул мне руку.
– Спасибо.
– За что? – не понял я.
– Что сделка все-таки не состоялась. У меня вновь все на месте. И пустоты нет. И я вновь здоров! Если бы эта папка осталась жива, черт знает, где бы теперь была моя душа. И как бы я расплатился за эту сделку. Только черт это знает. А знаете, я обожаю свою работу. Я свободен, это многое значит. Не только во времени. Но и в мыслях. Ведь что возьмешь с обыкновенного дворника? Как представлю, вставать каждое утро, плестись неизвестно куда и читать лекции, которые не я сочинил, и за которые по ночам было бы стыдно. Вы не находите?
– Пожалуй, – улыбнулся я. Почему мы думаем о людях гораздо хуже чем они есть?
– И это стоит отметить? – подмигнул мне дворник. – Ты не находишь? У меня прекрасная квартира! И ужин будет отменный!
У него была маленькая однокомнатная клетушка, в которой тысячу лет не делался ремонт. Занавески в горошек и чайник на плите. Я давно не встречал такого уюта. Он не обманул. И с ужином тоже. Бутылка водки прошла «на ура» под жареную картошку, кусок сала из деревни и соленые огурчики. И какого черта я так много времени проводил в ресторанах.
– А это Моне, – он показал на репродукцию. – Я смотрю на нее, и мне кажется, что я уже был во Франции. Много-много раз. Странное чувство. Ехать-то я туда не хочу! Мне даже лень! Как подумаю – самолеты, багаж, суетливые пассажиры. И если бы мне предложили путевку в обмен на эту репродукцию, я бы дал тому в морду.
Я улыбнулся. Совсем недавно он говорил, чуть не продал душу за неизвестную папку. Как он врал! Никогда и ничего бы он не продал! Это его фантазии. Он все же был философом. И имел право вообразить, что было бы так, а не иначе. Чтобы потом долго еще разглогольствовать и философствовать по этому поводу.
И вдруг я вспомнил Смирнова, его жену, Маслова, Витьку и с удивлением подумал, а ведь не так просто купить человека. Это хотят представить, что это так. И я сам чуть не поддался на эту уловку. Оказывается, очень трудно продать душу. И, может быть, Маслов преувеличивал, говоря о земле, которая скоро превратиться в свалку проданных душ? Как хотелось бы в это верить.
Эту ночь я проспал как убитый. И проснулся с легким сердцем, легкими мыслями, легкими планами на будущее. Что ж пришло время начинать все по-новому. И я искренне этому был рад.
За окном лил дождь, слышался шорох метлы, и голубок клевал на подоконнике хлебные крошки. И мне эти звуки показались гимнами Глинки и Бетховена. Гимнами жизни.
Я улыбнулся. Нет, все-таки вечность, хоть и маленькая, но существует. Для каждого из нас.
ЭПИЛОГ
САНЬКА ШМЫРЕВ
Я вернулся в спорт. В маленький спорт. Я был тем же форвардом, но без имени. Как и моя нынешняя команда – без имени. Я так же ездил на соревнования, правда, гораздо реже. И в окошке автобусов, автомобилей, самолетов вместо бестолковых, пропитанных гамбургерами и кока-колой улиц Нью-Йорка, Парижа, Осло я наблюдал за тихими улочками провинциальных городов, пахнущими мочеными яблоками и перебродившим квасом. Я вернулся к своей жизни, маленькой своей жизни. Вместо дворца, который мы соорудили с Дианой я жил в однокомнатной квартире с видом на проходную какого-то давно умершего завода.
Я отказался от прежней жизни, но вернулся к ней, урезав до миниатюры, отказавшись от безудержного размаха и уместив ее в рамки четырех стен, работы и добровольного затворничества. Словно огромную фотографию, на которой умещался весь мир в преувеличенных размерах, я уменьшил, сделав компактной, обрезав ненужные кадры и оставив все дорогое.
Мне нравилась такая жизнь, я ощутил ее горьковатый вкус правды и пьянящую радость одиночества, которое, возможно, и осталось для каждого из нас единственно правдой на земле. И единственным выходом.
Я мог выбрать другое. Я был прав: и скандалы, и трагедии, и триумфы сегодня – на один день. И память – на один день. Каждый день несет новую память, которая к следующему утру по собственной воле стирается. Возможно, бессмысленным было открытие Смирнова. И еще более бессмысленным его уничтожение.
Как-то на тренировке, к спортклубу подъехал лимузин, из которого вышел солидный человек с заметным брюшком. Костюм настолько был опрятным и выглаженным, что не хватало на нем лишь этикетки. Я с трудом узнал Саньку Шмырева.
Мы пожали друг другу руки. Санька, не глядя мне в глаза, залпом, на одном дыхании предложил мне несколько вариантов – как покинуть свой маленький спорт и маленькую жизнь. Это были шикарные варианты. Возможно, когда-то… Я бы за них душу продал. Но я уже знал что такое продажа души. И цену душе знал тоже. Я пощупал мягкую английскую шерсть Санькиного костюма. Тот по-прежнему избегал моего взгляда.
– Спасибо, Санька, – искренне сказал я. – Но, честное слово, я уже знаю, что такое быть счастливым.
– И, правда, знаешь? – Санька уставился в пол. – А я вот нет. И, наверное, уже никогда не узнаю.
– Посмотри на меня, Санька, – я слегка притянул его к себе за кусок шерстяной английской ткани. – Ты ни в чем передо мной не виноват.
– Перед тобой? Наверное, нет. Впрочем, наверное, ни перед кем вообще. Ни лгал. Ни воровал. Ни убивал. По-прежнему чист, как стекло. Только знаешь… Помнишь, в детстве, мы играли в секрет? И какое счастье было, что его находили? Хотя все про него знали. Так вот я… Сколько это стекло не буду тереть, и сколь чистым оно не будет, но ничего, ничего я за ним не увижу. Никакого секрета. Лишь пустоту. Так какой смысл, что моя душа чиста, как стекло? Если в ней уже ничего нет…