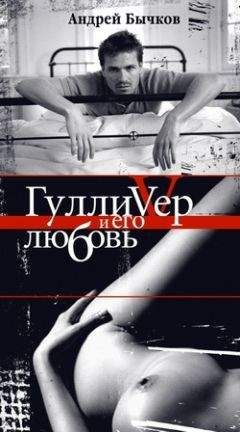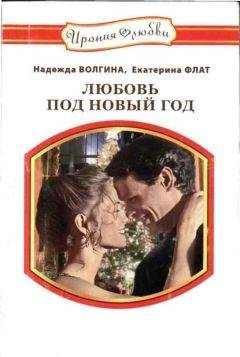Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 4 2011)
жизнь — это Бог; Бог — это
Я проживаю миллионы лет в каждой секунде и сейчас,
смотря на газовые горелки в кухне моей бывшей
мимолетной девушки.
Я — это мимолетность; я — это желание.
Я стою посреди огромной поляны, где никого нет.
Где мимо бегают немые ежи; где воздух заполнен ответом,
совершенно бессловесным
Я стою посреди огромной поляны, где никого нет
Я стою посреди огромной поляны
Я стою посреди поляны
Я стою посреди
Я стою
Я
…
Мерцающий воздух бессловесный свет повсеместный свет.
В основе стихотворения — конструкция, отработанная поэзией XX века: верлибр, “собираемый” анафорой, верлибр-определение, где абстрактное определяется через конкретное (вспоминается Маяковский, с его пафосом и риторикой; быть может, Уитмен, но не Пастернак с его “Занятьем философией”). Однако, читая стихотворение, понимаешь, что традиционная конструкция смещена и — быть может, даже сознательно — переосмыслена. “Определяемое” стихотворения — “Я”. Традиционная риторика в таком случае варьировала бы варианты ответа на вопрос “Кто я?” — располагая эти вариации в плоскости этического и “обобщения опыта” [2] .
Здесь же вопрошание переведено в иную плоскость. Вопрос звучит иначе: “Что такое „Я”?” То есть — не “я героя” и не “я автора”, а “я” как таковое. Но при этом вопрос задается с исключительно персональной точки зрения — так, что эмпирическое, конкретное “я” вопрошающего оказывается как бы “материалом для наблюдения”, “частным случаем”. Конкретное переживание здесь — не материал для дедукции, а основа философского синтеза. Телесное, но — общее, частное — но сущностное, — такова среда этого стихотворения. Собственно, его сюжет — это “схватывание”: в частном переживании “схватить” переживание как таковое, чистый момент бытийствования. “Быть”, “проживать”, “стоять” — вот глаголы этого стихотворения. Максимально пустые, абстрактные, лишенные конкретной семантики. Тонкая грань между пространством реальным, пространством “вещей” и пространством метафизическим, которое находится за гранью опыта, преодолена и почти стерта. Герой смотрит на газовые горелки — в некотором “сейчас” и одновременно “стоит на поляне”. И то и другое — реальность. Но разного порядка. Ибо “стояние на поляне” — это еще и метафора. Особого рода. Метафора-иллюстрация, метафора-фокус. Свое определение “я” поэт начитает с очевидных и прямых ответов, подчиненных логике, но, дойдя до слова “Бог”, будто бы запинается, после чего переходит к непосредственному опыту, более “честному” и “частному” описанию того, что происходит со “мной” “сейчас”. Однако и этот подход не совершенен. Тут и возникает “Стояние посреди поляны” как “бессловесный ответ”, как своего рода экзистенциальная метафора для неназываемого, позволяющая максимально близко подойти к сути вещей. Следует отметить и то, что далее в стихотворении вполне по-концептуалистски (вот он, синтез) происходит как бы истаивание слова (оно показано графически).
Этот способ говорения и есть искомый мост между повседневным и метафизическим. И он диктует стержневой “сюжет”, реализуемый в стихах Афанасьевой и на уровне текста, и на метауровне: конкретный момент жизни, “схватывание переживания” и прорыв — поэтическое раскрытие мира стихотворения в пространство экзистенциальной метафоры. Так становится возможно говорить о том, о чем не можешь сказать (один из разделов книги так и называется “Я говорю о том, о чем не могу сказать”), — о “реальности как она есть”:
Прелесть иллюзий,
миров, которые сам себе создаешь,
милых машинок, порхающих в твоей голове,
будто какие угодно бабочки,
в то время, как муфлон с безобидным взглядом
просовывает нос между прутьями клетки,
выпрашивая у меня то ли чипсы, то ли капусту.
В то время, как сегодня апрель
и днем гремела гроза,
в то время, как реальность
живет где-то между подуманным и высказанным,
мерцает между ними, извивается
неуловимая, словно уж,
голосистая, словно павлин,
тихая, будто взор муфлона,
Истинная, как то,
что о ней невозможно
ни толком подумать,
ни тем более сказать.
“Невозможно сказать”, но говорить все же — можно. Если застыть, остановить время событий мира, как бы попасть в крупный план, замедленную съемку, найти и зафиксировать тот момент, когда то, что ты переживаешь, является переживанием “чистого существования” и вместе с тем — его метафорой. Это для Афанасьевой — идеальный момент письма. Сидение в парке с книгой, ожидание у памятника, падение крупных снежных хлопьев, стояние в поле под небом, стояние на поляне — все это такие моменты “синхронизации”, моменты “речи”:
Мартовский снег, мохнатые круглые хлопья,
Нежность моя вы, мохнатые круглые хлопья,
Нежность господня, мохнатые круглые хлопья.
В самом начале весны — мохнатые круглые хлопья.
Бог мой, я проникаю в мгновение так глубоко,
Что сливаюсь с ним воедино,
И каждое снежное тело весит так много,
Но в то же время — так мало,
Что и я становлюсь невесомым.
Фиксация мгновения, “проникновение в него” — исходный шаг поэтической феноменологии “новой метафизической поэзии”, выстраиваемой Афанасьевой. Однако здесь видны и “границы метода”: разрыв между переживаемым доподлинно и только названным, продекларированным. Мандельштамово “„Господи!”, сказал я по ошибке” здесь как нельзя более уместно:
Я хочу смотреть, как нежность взрывается в воздухе
<…>
И в восхищении замирать оттого, что на коже твоей
Мерцает капля воды, бывшая снегом секунду назад,
И думать, что среди снега не разобрать,
Где ты, где я, а где Бог.
Ты, я, Бог — метафизический треугольник, который в системе поэтической философии Афанасьевой может быть лишь почувствован, но не обнаружен въяве и назван, ибо принадлежит области, которую можно лишь показать (согласно установленным правилам игры), но никак не назвать “своим именем”. Поэтический мир Афанасьевой — просторный и цельный — действительно фокусируется в некоей точке абсолютного смысла. Но сам “фокус” — за линией восприятия. Читателю он должен быть дан лишь в фактах сознания говорящего. Оттого процитированный фрагмент кажется “отходом” от намеченной линии и даже — проговоркой. Метафизический язык начала XXI века упирается в феноменологию как в собственную границу. Скепсис, накопленный в течение предыдущего столетия, не преодолевается ни добрым намерением, ни простым усилием воли — язык отсекает для поэта прямой путь в “горние области”. В сущности, то, что мы выше назвали словосочетанием “момент письма”, близко к лермонтовскому “И в небесах я вижу Бога”, — но лирический герой Лермонтова безоговорочно погружен в натурфилософское чистое пространство, которое возможно и в котором возможно откровение. Афанасьева, возвращаясь к истоку философской лирики “после всего”, пишет ее в ситуации невозможности и недоверия — классической традиции философско-поэтического умозрения и связанным с ней недоверием “именам вещей”. Эти “имена” отчуждаются и прокручиваются вхолостую, даже если появляются. Ее философская лирика не выходит за пределы реального эмпирического континуума и соотносится с предшествующей классической традицией скорее пародийно, противополагая ей усвоенную непосредственно от современников (Львовский, Воденников) искренность “прямого высказывания”, которое “очищает” (по Гуссерлю) вещи от разнообразных наслоений, мешающих пробиться к ним самим.
Отчасти это выражено — как фундаментальное сомнение — в стихотворении “Где опустели словари….”, которое отсылает к пушкинскому “Пора, мой друг, пора…”:
Где опустели словари
И старость просит
Кого-то двери отворить
Глагол “уносит”
Свое пристанище находит