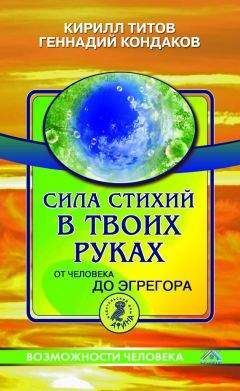Фридрих Горенштейн - Место
И тут не знаю, что получилось. Может, от отчаяния, от ощущения того, что все, чего я боялся и против чего боролся три года, свершилось ныне так просто, причем нынешнее мое положение лишает меня возможности просить, унижаться и искать повод действовать на начальника через покровителей, может, оттого я как-то потерял ориентиры и яростно, сломя голову вступив в противоборство, вынужден был, поскольку мой враг взял на вооружение новые, послесталинские веяния, использовать старое, консервативное сталинское начало.
– Нет уж,– сказал я, размахивая угрожающе пальцем,– военная прокуратура прикажет, и ты (я сказал со злости «ты»), и ты со своим законом знаешь куда пойдешь?… Прикажут лошадей в комнаты поселить – поселишь (об этом сравнении можно сказать, что оно не очень удачно. Однако назавтра в общежитии его приводили как пример моей психической болезни. Я сам слыхал, как о том шептались на кухне жены семейных).
– Вот что, молодой человек,– сказал начальник,– я думал, у вас хватит такта не вынуждать меня объявить и вторую, главную, может быть, причину изъятия у вас постели… Понимаете, живут у нас молодые ребята, холостяки…– Он усмехнулся.– Вы человек уже немолодой, под тридцать… Но устраивать в комнатах разврат мы не позволим… Это плохо влияет на молодежь… Так мы и скажем, если позвонят из военной прокуратуры. Если вам это выгодно, так что ж…
Вот когда этот новый, мягкий, послесталинский стиль показал свои коготки… Я был убит, раздавлен и обезоружен, ибо просьбы и унижения даже во имя сохранения ночлега были невозможны из-за возвращенного мне реабилитацией достоинства, а противоборство невозможно также, ибо не только положение мое до конца не было ясно, но даже и позиция моя по поводу этого положения была путана, по крайней мере в той части, где я пытался запугать начальника прежними методами произвола, которые чуть ли не применят карательные органы, дабы сохранить за мной койко-место. Вот тут-то начальник и выложил свой козырь, прибереженный под самый конец, именно насчет моей связи с уборщицей Надей, причем меня даже в жар бросило, поскольку я представил, что за нами подглядывали в замочную скважину, куда по неопытности я не вставил ключ.
– Что же делать,– сказал я чуть ли не вслух,– что делать?… Вы думаете, взяли меня за горло… А докажите… Да… Пусть кто-нибудь подойдет к моим вещам в шкафу или тумбочке, глаза выбью… Попробуйте не вернуть постель, сталинские морды…
Я защищался как мог, отбросив щепетильность и душевную сложность… В общем, если вспомнить, положение мое начало налаживаться именно за счет простоты и крайних понятий, во время слежки за Саливоненко я даже окреп. И наоборот, душевные сложности, размышления и любовь привели меня, в который уже раз, на грань катастрофы…
Пнув ногой стул и сильно хлопнув дверью, дабы хоть частично растратить накопившуюся нервную энергию, я вышел от начальника, и, придя в комнату, не глядя на жильцов, которые при моем появлении замолкли, стараясь не встречаться со мной глазами, не глядя ни на кого, я начал готовиться к ночлегу… Если б койка моя была обычна, то есть с обычной, а не панцирной сеткой, то положение мое вовсе было бы плачевно. Но в период дружбы моей с Береговым он раздобыл себе и мне койки с панцирной сеткой, более мягкой, пружинистой и густой, не имеющей в соединениях металлических звеньев острых жестких крючков… Вместо матраца я положил несколько пар белья, которое собирался отдать в стирку, однако ныне задержу до получения назад постели. Конечно, они заняли лишь часть панцирной сетки, и я выложил чуть ли не все содержимое чемодана: рубашки, майки, даже носки. В дело пошло и несколько старых газет, обнаруженных мной в тумбочке. В резерве у меня оставались главные, так называемые основные вещи, которые можно было использовать вместо постели: именно пиджак на каждый день, пальто и плащ… Выходной вельветовый пиджак, новую летнюю курточку и брюки я использовать не решился, дабы не измять и не лишить себя возможности в исключительных случаях иметь приличный вид. Надо было распределить, что под голову, а что в качестве одеяла. Лучшим изголовьем было, конечно, пальто, особенно учитывая металлическую полосу, скрепляющую в конце сетку, полоса эта ощущалась даже сквозь втрое сложенный пиджак. Но, использовав таким образом пальто, я лишился бы хорошего одеяла, каким оно являлось и каким не могли явиться ни плащ, ни пиджак вместе взятые… Постояв так и подумав, я вынужден был, сокрушенно вздохнув, присовокупить в качестве постельной принадлежности также и выходной вельветовый пиджак, использовав его в изголовье и стараясь сложить как можно аккуратнее – рукав в рукав. Таким образом, оба пиджака были в изголовье, пальто в качестве одеяла, а плащом я укутал ноги. Пока я стелил, все жильцы, кроме Берегового, который с невозмутимым видом читал, лежа на своей постели, юмористические рассказы Остапа Вишни, все жильцы следили за мной с каким-то хмурым сочувствием и жалостью, которые меня раздражали… Жуков перемигивался с Петровым, они вышли, позвали Саламова, Саламов вернулся и предложил мне две простыни… Во-первых, что мне две тонкие простыни, разве защитят они от жесткой сетки или холода (ночи, особенно перед рассветом, все ж были холодные, хоть бы и в июле, поскольку Береговой настежь распахивал окно), итак, что мне две простыни? Во-вторых, терпеть не могу этой мышиной возни и помощи со стороны людей, которые даже и не разговаривали со мной и помощь предложили через посредника. Поэтому я не только в достаточно обидной форме отказался от простыней, взяв их из рук Саламова и молча бросив назад – одну на постель Петрова, вторую на постель Жукова, но, чтоб продемонстрировать свою твердость и права в комнате, несмотря на отобранную постель, подошел широким шагом к радио и выключил его. Береговой поднял голову, однако промолчал. Я лег. Первоначально было, конечно, непривычно, но потом я приспособился, подобрал ноги, дабы не лежали они на металлической полосе, нашел удобное положение почти на спине, но чуть повернувшись на правый бок, и таким образом даже вздремнул. Однако ночью, проснувшись от холода, с затекшими ногами, я начал ворочаться, распрямил ноющие колени и при этом угодил пятками на холодную металлическую полосу. Чем более я пытался улечься удобнее, тем более все из-под меня и с меня расползалось, шелестели и рвались газеты, и тут-то я понял подлинную цену мягкому матрацу, подушке и одеялу, в ночные часы доставляющим такое удовольствие телу, что большее удовольствие, чем сон на мягкой постели, даже трудно было придумать… Конечно же, всю ночь я не спал, тело мое было словно истерзано, но это как раз и позволило мне окончательно вернуться в состояние ожесточения и крайней твердости… Когда все жильцы утром ушли, я вздремнул часа три на постели Саламова, предварительно накинув крючок. После этого я вынул список моих врагов и вписал туда Жукова, Петрова и нового начальника, фамилию которого я пока не знал и обозначил двумя буквами: Н. Н. (новый начальник). Я отвинтил от койки металлический болт с крупной нарезкой, и он на первых порах вполне мог заменить мне утраченный замок от тумбочки. Зажав болт в кулаке, я некоторое время тренировался, нанося удары воображаемому врагу. Помимо болта в подвале, в комнате, предназначенной для стирки, я обнаружил довольно увесистый предмет продолговатой формы, железный или чугунный, с удобной ручкой… В предмете были пазы и просверлено несколько отверстий, очевидно, он был какой-то деталью чего-то, мне неизвестного и кем-то сюда с неизвестной же целью принесенной… Рукоять я обмотал мягкой тряпочкой, чтоб руке было удобно, сам же предмет оттер от ржавчины наждачной бумагой, найденной под кроватью у Жукова. За этой работой незаметно прошло несколько часов, в течение которых я ни с кем не разговаривал, никого не видел. Тем не менее в тот же день пошли слухи о том, что я психически больной. Меня начали опасаться и избегать. Если помните, в общежитии жил уже подлинный психический больной, именно каменщик Адам, который тратил большую часть своего заработка на портреты знаменитых людей и дарил эти портреты в детские сады. Но Адама этого все, кроме меня, любили и не позволяли обижать… Впрочем, если подумать спокойно, беспристрастно, на что я тогда, будучи озлобленным, не имел возможности, то оно и понятно. На Руси любят только блаженненьких. Я же ходил по коридору шумно, всюду заглядывал, не уступая никому дороги, а наоборот, желая столкнуться… В состоянии моем снова была значительная доля капризности, причем капризности мрачной, и вскоре я услышал на общественной кухне, парламенте нашего общежития, как жены семейных, депутаты этого парламента (мысленно давая такие сравнения, я потешался), жены семейных роптали в том смысле, что я, мол, пугаю детей, и собирались куда-то писать. Не знаю, писали ли они, во всяком случае, после того как у меня отобрали постель, ничего более не предпринималось конкретного и административного, с одной стороны, наверное, рассчитывая, что я сам не выдержу ночевок на голых металлических пружинах, с другой же стороны, все же, наверное, принимая во внимание звонок из военной прокуратуры в мою защиту. Так что на отбор постели они, пожалуй, пошли из крайнего пристрастия, убедив в том и даже уговорив нового начальника, ибо, не сообщи я в райком на комендантшу и не избей Колесника, желая расплатиться за унижения, им сочиненные, все, возможно, пришло бы в равновесие, я имел бы возможность продолжительное, может, очень продолжительное время жить на койко-месте с казенной постелью. Администрация смотрела бы на это сквозь пальцы, лишь бы я оплачивал аккуратно койко-место. То есть согласись я забыть прошлые унижения и удовлетворись реабилитацией в той форме, в которой она была для меня проведена. Но я сам нарушил равновесие, в частности, напав на Колесника и тем самым сделав контрпроцесс неизбежным. Интересен еще один факт. Григоренко, мой друг, показал себя человеком совершенно чужим, не мне как личности, а мне как идее. Это требует пояснения. Каждый человек помимо своей личности несет еще и определенную идею, не в социальном лишь, а даже в более широком, общественно-историческом смысле. Так вот, Григоренко, хорошо относясь ко мне лично, принадлежал в то же время к иной общественно-исторической идее и вследствие этого, потеряв ориентировку, попытался самым нелепейшим образом агитировать на общественной кухне, этой цитадели враждебности ко мне, агитировать в мою пользу, пытаясь возмутить общественное мнение совершенными против меня несправедливостями.