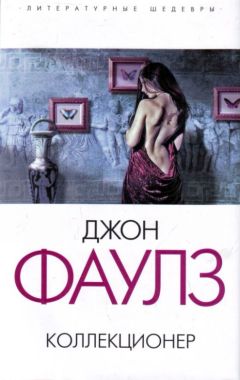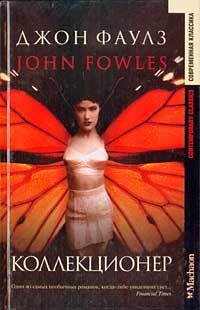Джон Фаулз - Дэниел Мартин
— Ты имеешь право на арию. — Энтони не понял. — Старый голливудский жаргон. Знаменитая фразочка Голдвина155: «Кончай со своей паршивой болтовнёй, арии вышли из моды вместе с Шекспиром!»
Энтони поднял голову — ему понравилось.
— Это надо запомнить. — Вгляделся Дэну в глаза: — Ты понимаешь, что я пытался сказать тебе, Дэн?
— Разумеется.
— Я знаю Джейн лучше, чем кто-либо ещё в этом мире. Несмотря ни на что. Она действительно нуждается в помощи. В добром самаритянине.156
— Сделаю всё, что в моих силах. — Дэн протянул руку, коснулся пальцев Энтони и встал. — Приду завтра. Представлю тебе все ужасы мира, в котором живу. Тогда попробуй отвергнуть Шпенглера,157 если удастся.
— Я буду рад.
— И не беспокойся о прошлом. Главные недостатки проекта обнаружились в неодушевлённых предметах. В окружающей жизни. Не в нас.
— Если ты согласен, что средство их исправить заключено в нас самих. Теперешних. Не тех, какими мы были.
— Договорились.
Больной протянул руку, и Дэн сжал его пальцы. Тут — жестом, наконец выдавшим глубоко запрятанное чувство, — Энтони накрыл их соединённые руки своей второй ладонью. Но глаза его, вглядывавшиеся снизу вверх в глаза Дэна, были сухи.
— Столько всего ещё не сказано.
— Слова. Нет необходимости.
— Ну что ж. Удачного вам обеда.
— А тебе — хорошего сна.
— Эта проблема легко решается современной фармакологией.
Энтони выпустил руку Дэна. От двери Дэн спросил:
— Позвонить, чтобы кто-нибудь пришёл?
— Нет, нет. Сами явятся.
Энтони поднял руку; и ещё эта его улыбка… Словно лёгкий намёк на благословение… или — намёк на легко даваемое благословение: что-то столь же неоднозначное, как репродукция висевшей над кроватью картины, соединившей в себе гениальный артистизм и болезненную религиозность.
Он уже решил для себя, каким я стал, и не хотел, чтобы я понял это. Так что я потратил последнее мгновение, просто рассматривая Энтони. Не пытаясь больше его разыскать.
Джейн
— Всё в порядке?
— Нормально.
— Я только пойду пожелаю ему спокойной ночи, ладно?
Я остался ждать Джейн там, где нашёл её поглощённой чтением книги; ожидание было тем более тягостным, что мною владели смешанные чувства: самым чётким из них было смущение оттого, что мне предстояло провести вечер с женщиной, вовсе не желавшей, чтобы я вновь вторгся в её жизнь, и оттого, что я только что более или менее твёрдо обещал ей солгать.
Открытие об отношении ко мне Энтони в нашей предыстории, по здравом размышлении, представлялось не столь неожиданным, не столь из ряда вон выходящим, как назначение меня на роль спасителя женщины, явно не желавшей, чтобы её спасали. Возникало ощущение, что меня как-то исподволь одурачили, что я позволил трагической ситуации, в которой оказался Энтони — хоть он и старался в нашем разговоре всячески отрицать наличие этого элемента, — лишить меня слова. Я должен был спорить, приводить больше доводов… Он воспользовался преимуществом, которое давала ему неожиданность, и никакие мои репетиции не могли предусмотреть столь радикальной смены основных посылок… я не рассчитывал на что-либо иное, кроме формального возобновления отношений с Джейн в будущем.
Видимо, болезнь и обезболивающие выбили Энтони из колеи, повлияли на психику: может, всё это было задумано в отместку жене; вполне возможно, он той же линии придерживался и с другими… Но ведь если бы это было так, Джейн меня предупредила бы заранее, а её поведение вряд ли опровергало поставленный им диагноз. Я думаю, главным потрясением во всём этом было обнаружить, что, по всей вероятности, событие, которое, как я считал, искорёжило мою жизнь значительно сильнее, чем её, но к которому я давно привык относиться как к тем самым волосам, по которым не плачут, в конечном счёте — если верить Энтони — затронуло Джейн гораздо более глубоко. Но всё это была такая глубокая ретроспектива, такое давнее прошлое, будто пришёл в театр и обнаружил, что там всё ещё идёт пьеса, которую видел полжизни назад. Разумеется, в каком-то смысле они оба — и Дэн, и Джейн — всё ещё продолжали существовать в этом театре, прошлое для них, таким образом, продолжало реально существовать в настоящем; но уже не в первый — и не в последний — раз за этот вечер я чувствовал, что очутился среди детей или, во всяком случае, среди людей, чьи представления о человеческих ценностях как-то странно окаменели. И всё же я понимал, что субъективно гораздо более тронут разговором с Энтони, что эта субъективная сторона моего «я» извлечена из-под всех ожесточивших душу лет, извлечён на свет некий зелёный росток не только с хорошими, но и с плохими его сторонами, подразумеваемыми этой метафорой, со всем тем, что мы утратили и что обрели.
Джейн отсутствовала недолго, и вот мы уже в лифте, спускаемся вниз, стоя бок о бок и глядя на двери перед собой. Тягучий миг неловкого молчания.
— Как ты его нашёл?
— Поразительное мужество. Просто волосы дыбом встают.
— Ну, если ты считаешь, что не зря потратил время…
— Разумеется, нет.
Слова её прозвучали… не подберу другого слова — почти непристойно. Тон весьма выразительно зачёркивал символическое отрицание. Я не одобряю всего этого, изволь почувствовать силу моего неодобрения. Она отыскала в сумочке ключи от машины.
— Он просил меня передать тебе его книги об орхидеях.
— Очень мило с его стороны.
— Да они, наверное, безнадёжно устарели.
— Сомневаюсь. И всё равно был бы рад получить их.
— Постараюсь их отыскать.
Двери лифта плавно раскрылись. К тому времени, как мы уселись в машину, стало совершенно ясно, что она не собирается расспрашивать, о чём мы с Энтони говорили. Что ж, по крайней мере я буду избавлен от необходимости лгать. Джейн либо знала, либо это её совершенно не интересовало. Энтони, во всяком случае, удалось убедить меня, что ему хотелось бы стереть из памяти годы молчания. Джейн же явно была довольна тем, что они не стёрты, и подчёркивала, что помнит об их существовании, внешне вежливо, но решительно делая вид, что всё идёт нормально.
Мы добрались наконец до итальянского ресторана. И снова кто-то из посетителей её узнал. Мы остановились, она представила меня сидевшей за столиком паре — назвала мою фамилию, и всё, словно ей было бы стыдно объяснить причину моего присутствия здесь. Немного поговорили об Энтони. Потом мы прошли через весь зал к нашему столику. Джейн объяснила, кто это такие: профессор английской филологии из Мертон-колледжа158 и его жена. У меня создалось впечатление, что она с большей охотой сейчас сидела бы и разговаривала с ними: вот так-то — око за око, — я ведь тоже втайне подумывал о Дженни. Мы изучили меню, заказали еду, и она принялась расспрашивать меня о моей работе. Разговор завязался; Джейн, в кремовой блузке с агатовой брошью у горла, спокойно сидела, поставив локти на стол и легко сплетя пальцы; чуть откинув голову, она внимательно разглядывала всё вокруг, старательно избегая смотреть на меня. Мало-помалу, сам того не желая, я понял, что готов согласиться с Энтони: она была не здесь, упрямо отсутствовала… более того — она отсутствовала презрительно. Она всячески старалась проявить любезность, но, несмотря на это, я вскоре ощутил в ней то же презрение к киномиру, в котором существовал, какое она испытывала к религиозному и философскому миру Энтони. И вопросы её были не такими уж невинными.