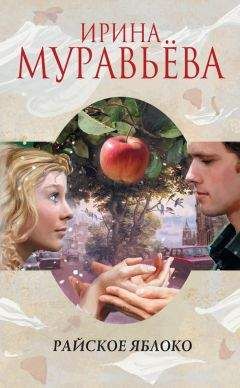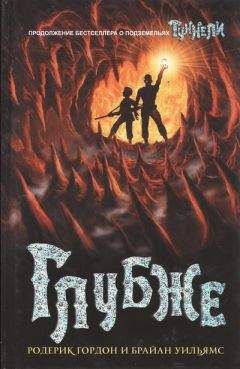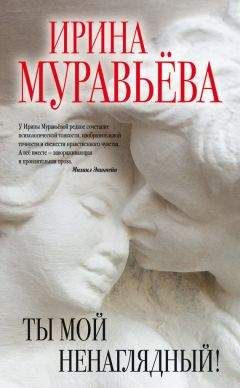Ирина Муравьева - День ангела
– Merci, madamе.
Господи, пожалей его.
Нью-Йорк, наши дни
Утром Ушаков позвонил Лизе. Мобильный был выключен. Даже если она внезапно уехала из Нью-Йорка ранним поездом, она все равно могла бы ответить на его звонок. В гостинице «Хилтон» продолжалась конференция, но Ушаков решил, что больше туда не пойдет. Через полтора часа он позвонил еще раз. По Лизиному телефону ответил незнакомый женский голос.
– Who is it?[89] – с сильным русским акцентом спросили его.
Ушаков назвался.
– Wait a minute! I’ll ask her.[90]
В трубке зашуршало, потом он услышал, как Лиза сказала:
– Да, я подойду, только ты подержи… Осторожнее!
И снова шуршание.
– Але, это ты? – спросила она.
– Ты где? – удивился Ушаков.
– Я в больнице, у меня дочка.
В душе его вдруг оборвалось что-то. Сначала, очень ненадолго, появилось облегчение, что все уже позади, но это облегчение не успело даже окончательно сформироваться, как его уже захлестнуло чем-то тревожным, неловким, болезненным, и Ушаков почувствовал себя так, словно он должен очень быстро принять решение, которое он не готов был принять да и не хотел этого.
– Ну, наконец-то! Слава богу! – сказал он вслух. – Когда же это произошло?
– Час назад. Вчера, в десять вечера, все началось. А утром, в одиннадцать, я уже родила.
Он не знал, что сказать. Она тоже молчала.
– Как ты себя чувствуешь? – спохватился он.
– Нормально, – ответила она и засмеялась: – С днем ангела тебя!
– Можно мне зайти? – спросил он.
– Сегодня? – уточнила она обрадованно.
По ее голосу Ушаков понял, что именно этого она и ждала.
– Конечно, сегодня.
– Только прошу тебя: не нужно никаких цветов. Ей может быть вредно…
Поездка заняла не больше десяти минут, больница Lenox Hill оказалась в самом центре Манхэттена. Таксистом оказался украинец с пшеничными усами. Выяснив, куда ехать, он продолжал свой прерванный телефонный разговор.
– Ну, шо? – сурово спрашивал таксист.
В трубке очень громко тараторила женщина.
– З тобою все гаразд? – перебил ее таксист.
Ушаков увидел, как у него побагровела большая широкая шея.
– Були б пирижки – будуть и дружки, серденько! – шофер бросил трубку.
– Вы с Украины? – спросил Ушаков по-русски.
– Так да, – коротко ответил таксист, не удивившись.
Подъехали к главному корпусу Lenox Hill. Ушаков протянул деньги.
– Без витру и трава не шелестить! – пробормотал таксист, думая о своем и уже не глядя на Ушакова. – Розуму як у детини!
В центре вестибюля стояло большое каменное дерево, вокруг которого живое ползучее растение плотно обвивало свои листья. Сквозь стекло Ушаков увидел, что в машину, из которой он только что вылез, подбирая длинные белые одеяния, торчавшие из-под пальто, усаживаются двое индусов.
Он снял пальто, размотал шарф. Дождался лифта, поднялся на шестой этаж. Сердце колотилось.
А над Тереком ночь тревожная,
Свечки ставятся всем святым.
Эх, казак лихой! Отступать не положено,
Так помирать тебе молодым! —
вспомнил он слова песни, которую случайно услышал тогда, в Вермонте, когда поздно вечером возвращался от Лизы и все оглядывался на ее заросшее густой сиренью окно.
623. Это здесь. Дверь была приоткрыта, но Ушаков все-таки постучал.
* * *Белизна всего, что он успел охватить взглядом, едва ступив на порог этой комнаты, подействовала на него так сильно, как будто все годы до этого он жил в темноте или в сумерках. Только здесь, в этой комнате, была белизна настолько откровенная и уверенная в себе, насколько откровенны и уверены в себе знаки и явления природы. Была белизна, вот и все. В центре ее спал ребенок, и рядом с ребенком была женщина.
Она посмотрела на вошедшего строго и даже требовательно, но Ушаков почему-то не удивился этому ее новому взгляду: она смотрела сейчас на всех одинаково, потому что не хотела выслушивать никаких пустых слов и требовала, чтобы все внимание входящего немедленно обращалось к ребенку.
Ребенок спал с таким выражением на своем маленьком лице, словно он только что в одиночестве переплыл целое море и теперь, добравшись до берега, отдыхает. На желтоватом личике с выпуклым лбом, над которым завивались несколько прилипших к нему волосков, было сосредоточенное внимание к окружающему, включая и неизвестного Ушакова. Готовность полюбить и принять все, до чего ему наконец посчастливилось доплыть, была настолько заметна на этом лице, так сильно была она разлита по немыслимо мягким и малым чертам, словно одна жизнь уже была когда-то прожита этим ребенком, и теперь, переполненный вспыхнувшей о ней памятью, он чувствует в себе надежный гул прошлого, его блаженную незавершенность и всеми силами души переживает долгожданный миг своего возвращения. Сейчас, во сне, от которого вздрагивали его загнутые редкие ресницы, ребенок был отделен ото всего, что окружало его, включая и женщину, смотрящую со слепым восхищением – началом неизбежного будущего страдания материнской любви, – и, отделенный ото всего, ни в чем до поры не нуждающийся, он торопливо воскрешал в себе загроможденную ожиданием, стремительно убывающую реальность, которая была его прежней, одному ему известной жизнью. По крошечному лицу с редкими загнутыми ресницами торопливо, словно боясь пропустить хотя бы секунду оставленного на это времени, шли волны мечтательного воодушевления, и взрывы веселья, и тень острой боли, особенно странной сейчас, в этой нагретой белизне, которая со всех сторон оберегала новорожденного не только от боли, но и от любого, самого незначительного неблагополучия.
Ушаков задержал дыхание, которое вдруг показалось ему слишком громким, грубым, нарушающим спрятавшуюся ото всех, затаившуюся тишину этой комнаты. Когда же он снова осторожно вдохнул в себя воздух, ноздри его защекотал знакомый, почти забытый запах. Это был нежный запах только-только начавшего закисать молока, из которого его энергичная, «деревенская», как говорили у них в семье, прабабушка делала летом простоквашу. Ушаков, не отрываясь, смотрел на ребенка и чувствовал, как этот еле заметный запах, которым были пропитаны и младенец, и его мать, и все окружающие их предметы, начал постепенно затягивать его самого: напрягшиеся мышцы тела расслабились и блаженно обмякли, как будто он только что несколько часов пролежал на пляже, где сонные волны слегка набегали на ноги, а солнце слегка припекало затылок, но ничего не было и не могло быть лучше, чем это безволие, это бессилие. Ему не хотелось даже говорить, но очень хотелось прикоснуться к ребенку и почувствовать его тепло. Он протянул руку, чтобы дотронуться до круглой головки, которая должна была быть, как ему казалось, совсем шелковой на ощупь, но Лиза вдруг тихо сказала: