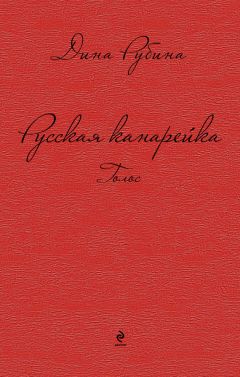Дина Рубина - Русская канарейка. Голос
Схватила камеру, поискала кадр, нашла и протянула ему:
— Возьмите в руки, а то отсвечивает. Не уроните!
Он никогда не интересовался художественной фотографией. Нет, конечно, в свое время он прослушал несколько лекций и умел пользоваться крошечными специальными штуками, вроде зажигалок и авторучек, которых и фотоаппаратом-то не назовешь. Но изображения тех или иных людей интересовали его лишь в просмотровом зале конторы и только с опознавательной, аналитической точки зрения.
Он принял камеру из ее осторожных рук, мельком подумал: картинка, всплывающая из темной глубины фото-экрана, — всегда кружение наливного яблочка по серебряному блюдечку.
Даже на таком невыигрышном поле видно было, что кадр изумительный — сине-золотой, сквозь ажурный гребень прибоя: грациозная фигурка, танцующая в центре залива на фоне косматой горы… Усилие удержать равновесие на доске схвачено виртуозно: легкий наклон чечеточника.
Какой я… маленький, подумал он привычно. Впрочем, это снято издали.
— Я еще поработаю над ним, — удовлетворенно заметила она, наблюдая за его реакцией. — Это будет стрекоза в слитке золота.
Следующим кадром выплыло его лицо: крупный план в бисере брызг, с округленными в песне губами, резкий очерк скул и орлиного носа, прищуренные глаза: черные искры среди зеленых бликов волны. Отличный кадр! Он никогда не видел себя таким и сейчас был поражен и стремительной силой этого лица, и той хищной ловкостью, с какой она выхватила из восставшей волны незаметный и в то же время значительный миг его бытия.
Подумал в растерянном восхищении: «Да она мастер! Не трепло, не барахло, а — мастер».
— Как это убить? — спросил он. — На что нажать?
Она ахнула и отшатнулась. Взглянула с таким презрительным отчаянием, точно он предложил убить ребенка. Нет, она не подослана. Сыграть это лицо, в котором отражаются малейшие перепады настроения, сыграть эту даже не открытость, а беззащитную распахнутость миру — скотскому миру, который, судя по всему, успел изрядно ее помять? Нет, невозможно. Неуместно мелькнуло: зачем она сняла свои доспехи? С ними хоть как-то была вооружена.
Она вздохнула, протянула руку и молча выщелкнула снимок.
— Не понимаю, — заметила угрюмо. — Вы что, так не любите свое лицо? Или, наоборот, так его цените? Должна сказать, тот ваш портрет на музыкальной афише… он так себе, мастеровитое ничто, просто глянцевая карточка. А здесь вы живой… были живым — таким горячим, морским, в соленых брызгах, таким… классным! И пели что-то мне родное — так показалось. Я чуть с ума не сошла… Прям как Желтухин!
Он едва не выронил камеру.
Аккуратно и медленно перенес ее на стол.
Принялся вытаскивать из внутреннего кармана плавок обернутые в пластиковый мешочек деньги — не поднимая головы, делая вид, что с трудом извлекает застрявшую купюру.
Затем долго, не глядя на девушку, изучал принесенный официантом счет.
Долго отсчитывал бумажки.
Наконец, поднял голову и с улыбкой произнес:
— Вы меня пристыдили. Что ж, готов позировать, если это нужно искусству. Только недолго.
— Ура! — Она схватила камеру, отскочила на шаг и сразу преобразилась: рысь на ветке, в засаде, в ожидании добычи.
— Только не здесь, пожалуйста.
Он рывком поднялся со скамьи и двинулся прочь от бара, туда, где гладкоствольный частокол кокосовой рощи уходил в курчавый крутоворот зеленого склона: мангровые заросли с веерными выхлестами арековых и ротанговых пальм. Выше по холму взбирались мощные стволы янга и такьяна, перевитые тропической путаницей лиан.
— Сделайте пару снимков такого… тарзаньего плана, ладно? — не оборачиваясь, прищелкнув пальцами, обронил он. — Если хотите, могу на пальму забраться.
Она нагнала его, тронула за руку. И когда обернулся, мягко проговорила:
— Я глухая, шейх. Ни черта не слышу, о’кей? Когда на губы смотрю, понимаю речь.
— Извините, — сказал он. — Ради бога, простите меня, я идиот.
— Ничего, — она махнула рукой, и они пошли рядом по песку. — Мало кто сразу ко мне приноравливается.
Пока шли, она безостановочно оживленно говорила — возможно, чтобы преодолеть его (так натурально изображенное) смущение.
— Здесь, конечно, классно: простор, покой, прилив-отлив, такой бесконечный тропический дурман, хранилище застывшего времени… Я сняла рассказ, так и назвала: «В отсутствие времени».
— Рассказ?
— Ну, цикл фотографий, потом могу показать: море, горы, огромный непроницаемый день острова… Люди тоже бесхитростные — я имею в виду здешнее население, ну, морских цыган. Не слишком жалуют туристов, боятся перемен. У них до сих пор электричества нет, одни только масляные лампы. Их деревни — там, на другой стороне острова, а я живу у Дилы… Она самая уважаемая, потому что грамотная… А во-он лодку видите, голубую с черным драконом? Это я расписывала. Я им тут и стойку бара расписала, меня за это кормили целую неделю. Еще придумала каждый день на закате лепить фигуры из песка перед входом в бар, туристов приманивать. И коктейли им обновила — я ж в коктейлях спец. Выручка сразу подскочила. Но потом мы подрались с одним человеком прямо там, среди столиков… — Несколько выразительных движений неугомонных рук — и картина потасовки мгновенно нарисовалась в воздухе и какое-то время удивительным образом длилась и даже развивалась, озвученная дальнейшим объяснением: — Расколотили кучу стекла, случайно задели пожилую даму… Будь это в Бангкоке, я бы загремела в Лад Яо месяцев на шесть. Но здешние полицейские — хорошие ребята, мы с ними шары гоняем. — Поймала его недоуменный взгляд, рассмеялась и пояснила: — Бильярд!.. В общем, обошлось штрафом, но на него ушли все оставшиеся деньги.
Они миновали последнюю лохматую хижину на сваях, с приставленной к ней деревянной, криво сбитой лестницей, прошли кокосовую рощу и вступили во мшистую влажную густотень, изрешеченную огненно-фиолетовыми солнечными пулями. В кипящей дрожжевой духоте кишмя кишела мелкая суетливая жизнь: звенел двухструйный ручей на боку скалы, зудели тучи насекомых, какие-то лакированные кусты исходили неумолчным стрекотом, и всю эту буро-зеленую папоротниковую кашу дробили, прорезали, выжигали пронзительные крики невидимых обезьян.
Под ступенчатым каскадом огромных ленивых листьев на все лады вскипала и вновь опадала многоголосица густого леса.
Здесь Леон молниеносно обхватил девушку, привалил к себе и локтем пережал горло.
Через две-три секунды ослабил удавку, выждал, пока девушка перестанет кашлять и хватать ртом воздух, и, приблизив губы к ее исполосованной солнцем щеке, вкрадчиво спросил по-русски: