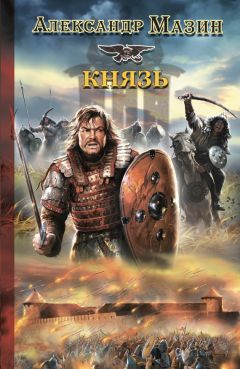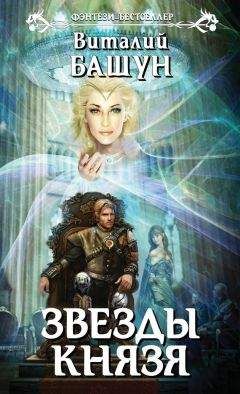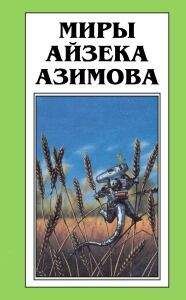Павел Кочурин - Коммунист во Христе
4
Марфа Лукинична, приоткрыв дверь, кликнула к чаю. И Яков Филиппович с Ива-ном прошли в гостевой пятистенок.
— Вот коли, в мужицкой избе, по-городскому обставленном, и погосќтюем, — сказал шутливо Яков Филиппович. Сели к самовару. Иван оказался лицом к портрету генерала. Когда проходил через пятистенок в келью старовера, на портрет глянул лишь мельком. А тут с портрета прямо на него устремились молодые глаза самого Коммуниста во Христе. И дерзновение отцовское во взгляде не пряталось. Портрет — это ведь не сам человек в толпе среди себе подобных, когда надо прятать настроение… Не скрывалось тут и ожи-дательное претерпение в чертах лица, осознание готовности к страданию и воля к преодо-лению его. Усмешка в неплотно сжатых губах. "Понимаю вот, — говорил Ивану облик ге-нерала, — но как и ты, колхозным инжеќнер, надеюсь…" Погоны на кителе не выделялись. Звезда Героя тоже на груди стушевана. Будто прилип к кителю опавший с березы осен-ний листок. Главное-то вот это — староверское, что в душе бережется.
Иван несколько раз виделся е генералом, когда он приезжал на побыќвку к родите-лям. В штатском он казался озорноватым мужиком, приживќшимся ненароком в городе. А на портрете, в казенном одеянии, — обеќспокоенным отринутостью от своего деревенского мира… Но все же вот мебель привез в деревню из самой Москвы. Захотел чего-то и не своего в отчем доме, староверском жилище. И вот оно мозолит глаза, мягкое и гладкое.
Хозяйка, Марфенька, заботливо разливала по чашкам чай. В ажурной плетенке из тонких ивовых прутиков лежали сухарики. Ваза с медом, варенье порошковое, сахар в фарфоровой сахарнице. Все вроде бы и по городскому, но с какой-то своей обиходно-стью. Прозорливый ум русских интеллигентов давно усмотрел в крестьянском быту корни высокой культуры своего народа, аристократического такта, "того бы и держаться, а не подкапывать устои, не губить крону живую прижившеќгося дерева, дающего свои плоды земные.
Яков Филиппович, как бы внутренне побужденный к продолжению разговора о житье-бытье, поведал Ивану свои на то думы:
— Без устали говорим, как жить, чего делать, чего не делать, а что жить домом на-до, о том забываем. Взять вот Марфеньку, их семью. Известь обжигали и за ней к ним ез-дили со всей округи. Это и нравилось всем. При нужном деле дом был, и не для себя толь-ко. Земля, она тоже не в оскудении держалась. Землей живи, но и дело досужее знай, чем в долгую зиму заняться. Так божий мир устроен, во всем свой прок.
Марфе Лукиничне припомнилось свое:
— Было-то былое, что бы и вспоминать, — оговорилась она. И оживиќлась: — Всей семьей камни собирали по округе. Отец с сыновьями ямы жгли. На базар ехали с бочками извести. И сами к нам приезжали…
— Во, во, — Яков Филиппович вроде важное что высмотрел. Поставил на блюдце чашку, и как кого-то невидимого предостерег жестом правой руки: — Базар, он мужика жизни учил… Любознатец что-то там всегда выглядит, и свое лучше поймет, душа-то и воззовется по добќру к хорошему. Одному продать свое надо, другому купить, какой в том грех, в рот те ухи… — И вроде чего опасаясь, смолк на своей присказке.
Когда сидели в староверской обители, не разу из уст Якова Филиппоќвича не выпа-ло это его "в рот те уши". А тут, как бывало на совеќщании, спрятался он за свою приго-ворку. Если уж комната, устроенная не по своему ладу, толкает к опасению и окорачивает высказ, то что же происходит в дуле пахаря-сеятеля, когда перед ним, куда не повернись, не его мир. И слетает с изумлением с языка, как зачурание: "В рот те уши, лукаваму коли на руку".
Марфа Лукинична повоспоминала еще с грустью о жизни в пору ее деќвичества, как о постройке, сгинувшей при пожаре. И как бы смирилась:
— Да что говорить-то, о чем уж… И деревни своей нет, только поќмин один. И как без церкви не бывает батюшки, так и без деревни муќжика хозяйского. — Как-то принужденно умолкла, ну тут же оживилась другим воспоминанием, что сапожник ихний деревенский, Федос, в саќмом Питере прославился.
— А за кожей-то на подошвы к нам приезжал, — досказал Яков Филипќпович, — к ста-роверам сухеровским Соколовым. Тысячи людей модно одевала мастеровитая деревен-щина. Образчики-то и теперь заграница нередко с нас прежних берет. А у самих нынеш-них все из рук валится. — Яков Филиппович вскинул пушистую снежную голову, умилил-ся. — Колодочки-то мастера сами выделывали, тоже из нашего, особого сорќта дерева. На-рисует ножку, по картинке и выстраќгивает… Дай ты волю — фабрики бы ладные завели, духом образоваќлись, не в показ один и жили бы. И технологию, как ныне говорят, свою улучили для всего мира годную. В деревнях, по селам, ум и талант державы копился, из земли рос и в человека входил. А тут пыќтливого мужика, кому не лень, в хвост и гриву лупили, в дугу гнули, в рот те уши. Прости господи, в гнев вот вводишься.
Марфа Лукинична как бы смягчила разговор смиренным словом:
— Да что и говорить, чего ждать, коли к делу рук не протяни. — Стала угощать Ива-на.
Как бы обиженные мирским неладом, перешли на разговоры о своем домашнем. О пчелах, какой нынче мед будет, о ягодах, о вареньях пользительных, целебных травах, за которыми родня городская приезжает. Яков Филиппович допил чай скорым глотком, опустил руки на скатерть. И как бы опираясь на них, медленно поднялся, переведя взгляд на Ивана.
— Пойдем-ка, Ванюша, заглянем еще в мою келейку-обитель. Я тебе шубейку пра-правнучкину покажу. По парижским картинкам сшил. Ненароќком заграница на москвичке увидит, так и мое там переймет.
Иван поблагодарил Марфу Лукиничну, встал. Когда вновь входил в келью, обратил внимание на дверь, как она легко ходит на кованых петлях, выделанных дедом Галибихи-ным. "Вроде вход в тайны тайн", — подумалось.
— Сшил шубейку-то из своей овчины. Нашу простоту с новой модой и скрестил. Так вот и одеваю сухеровских москвичек… — Говорил, вроќде секреты ведал. — Так что шель-мовки делают, на мои одежины иностќранные ярлыки лепят… Вот как себя-то, и свое лю-бим, дорожим, горќдимся. А за что нас тогда другим ценить-уважать?.. — Во всей фигуре старовера, прямой спине, заволосенном затылке, голове, как бы выќказывался безобидный упрек и ему, Ивану, колхозному инженеру. "Не тебе, вишь, сегодняшнему такое говорю, а верю в тебя завтрашнего. Выдюжить должен, как вот и я, старовер, выдюжил, и оберег ремесло родовое свое для будущего себя…" Внутренним голосом это Ивану и подсказыва-лось. И Яков Филиппович, как бы угадывая мысли Ивана, качнул бородой в знак согласия, усмехнулся, добродушно: — Время-то свое и для заморских ярлычников настанет. Вспом-нят проќделки, и устыдятся, как сраму на себе, — глянул вверх, вроде в какую-то даль. — А пока вот мы какие, в заграничном ходим, в таком, чего и в Париже не увидишь… Я, греш-ным делом, ярлычок свой на шелке русской вязью вышил. Баской получился, побаскови-тей заграничного… Пускай вот и полюбуются, поразгадывают откуда он…
За разговорами Яков Филиппович подошел к задней стенке своей кеќльи, где были вделаны шкафы с незаметными створками. В одном из них и хранилась правнучкина шу-бейка. Достал ее и положил на большой портновский стол. Раскинул полы вверх мехом.
— Вот сюда чужой ярлык и пришпандоривают генеральские детушки к сшитой дре-мучим дедом одежине: мы заграничные.
Шуба была мягкая, и не скажешь, что из овечьей овчины. Верх коричнево-сизый с синью. Секрет мастера в подборе коры, кореньев, камќней цветных для дубления и окра-ски. Умелец до всего сам доискивался. Не брезговал и распознаванием чего-то загранич-ного.
Яков Филиппович привычным жестом огладил волосья бороды и этим снял вроде как тяжесть с себя. Поведал о другом.
— Знаешь ведь поди от дедушки Данила, да и от отца, в округе наќ шей, слитом те-перь в единый колхоз, было четыре водяных мельницы, а ветряков, толчей, опихалок, маслобоек не сразу и сочтешь. Большая даровая сила. И начальства над ней никакого, все само по себе. И почтобы зорить все это. Уменье есть, изготовить новые механизмы для них… Но нигде вишь, такого нет, так и нам не надо… А море вот соорудили в лютый убы-ток себе. Сколько полей, лугов, деревень с церквами затопили. Беду с глупом и повенча-ли… Лозунг такой вжили: смычка деревни с городом… Тьфу ты, срамота, как о животине о человеке стали говорить. — Яков Филиппович брезгливо сморщился, погодил и опять стал тихо вещать о прожитом, будто влагу светлую для питья собирать. — Кирпичи обжи-гали, смолу гнали… — улыбнулся незаметно и высказал неосудно: — А рядом со смолокур-ней и самогонный аппаратик ставили. Как праздник без этого… Запрет был, он и понуж-дал хитрить и плутовать. При свободе-то и меньше зелья пилось, а тут принуждение за-претом. Как уворованного и не жалеешь. Тарное действо, оно уже причастие… Или вот кожи — береглись, не гнили, выќ делывать не отправляли за море. По деревням тряпье со-бирали, кости. И такой промысел был, как живодеры. Наезжали они по расплодившихся кошек, собак, старых лошадей. Милосердно все и делали… А тут скотину ровно по суду в телятниках везут. А она чует гибель и плачет. Не приходилось видеть?.. — Глянул на Ива-на. — К скотине жалость, оно сбережение и своей судьбы. — Скрестил руки на груди, будто уже и сам навек обреченный на невинную кару за мирскую нескладицу жизни. — Доќброй душе больно вот, когда дерево ранят… Хозяин, бывало, умелого и ловкого звал для убоя животины. А тот приходил в определенные дни, даже и часы. И мясо от его легкой руки было чистое, благословќленное. Люди знали, когда что надо делать без греха, с пользой. Огоќрод сажать, овощи с грядок снимать. Богом дано, с небом и совет деќржи… Для чего сказано-то мной такое?.. — Яков Филиппович выждал и истолковал свой выспрос: — Отняли от человека его трудовое дело, этим и сотворительной силы его лишили. В Писании-то как сказано: "В начале было Слово… Оно было в начале у Бога…" Бог одарил своим Сло-вом и человека. А человеки Слово Божье умертвили, стали все делать не по слову, во блу-де.