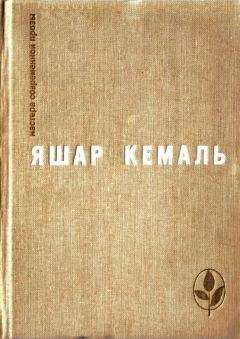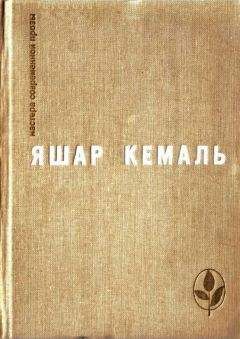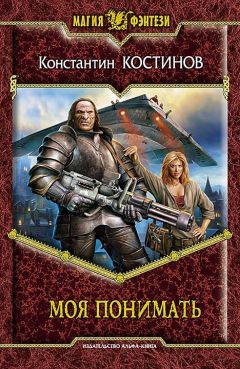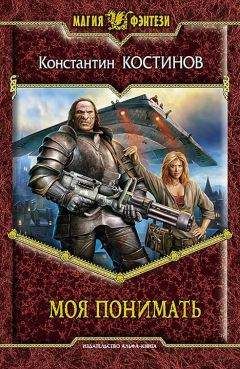Яшар Кемаль - Легенда Горы. Если убить змею. Разбойник. Рассказы. Очерки
Потоки воздуха тяжелые, как вода, удушающие.
Вдали за холмом широкой сверкающей лентой тянется лунный свет. Мальчишка почти в беспамятстве, нет у него уже сил бежать на бугорок. Лохмотьями повисли старенькие штанишки, рубашку сам не помнит когда сорвал с себя.
На рассвете запела какая-то птица. Сама махонькая, а голос протяжный и резкий. Джумали опять проснулся.
— Устал, парень? — спрашивает.
— Нет, дяденька, ни капельки не устал.
Едва выговорил эти слова, дыхание прервалось. В горле комом встали невыплаканные слезы. И тогда Джумали, потягиваясь, встал, протер глаза. Потом долго мочился за кустом.
Мустафа стиснул зубы. Его качало из стороны в сторону. Обхватил дрожащими руками очередную охапку хвороста, дотащил до печи, бросил.
— Иди ложись, — сказал Джумали.
Мустафа еще спал, когда пришел Хасан-бей. Спросил:
— Ну как мальчишка, работает?
— Спит вот, — поджав губы, процедил Джумали. — Что с такого возьмешь — молоко на губах не обсохло.
— Ну-ну, ты уж заправляй делом как надо. Потом рассчитаемся, — сказал хозяин и удалился.
В полдень проснулся мальчик. Зной опять залил округу. Упершись руками в землю, с трудом поднялся. Как раскаленное железо — земля. Хотел потянуться — ничего не вышло, все кости ломило. Каждую частицу тела пропитала боль. Зверски устал. Но заставил себя собрать все силы, бодро вскочил на ноги.
— Джумали-амджа, не сердитесь, я проспал.
Чуть ли не с яростью набросился на кучу хвороста, стал охапками зашвыривать в топку. Ветки корчились в пламени, пели, как птицы. Горький, влажный, удушливый запах заполнял все вокруг.
— Я ведь предупреждал тебя, что не сможешь без сна, — набросился на мальчика Джумали.
Мустафа делает вид, что не слышит. Окончательно он пришел в себя, лишь немного поработав.
— Ну вот, — сказал. — Первый день и миновал.
Представил себе два огромных, жарких, липких, адских дня впереди. Представил душные ночи. И испугался. Целых два дня! И две ночи в придачу. Хлопковое волокно не так уж и бело. Не иначе как отбеливают его химикатами. Не может быть, чтобы без них. Под вечер — проселок у холма Сюлеймана, поблизости речка Саврун. На мосту веселые пухлые девушки со смуглыми ногами. Воды в Саврун-реке светлые-светлые. Видно рыб, плывущих вверх по течению. Камешки на дне в солнечных бликах. Хочешь, можешь их пересчитать.
Мустафа все работает и работает, а Джумали, развалясь неуклюже в тени, дрыхнет, свинья. Наконец приоткрыл глаза:
— Устал, парень?
Мальчик, обугленный немилосердным зноем, голову пригнул, едва губами шевелит в ответ.
Нынешний вечер — последний. Месяц серебрится над тополями. Ноги подламываются. Осталась всего одна ночь. Одна-единственная.
Джумали обычным своим суровым тоном:
— Что ты там мельтешишь? Иди сюда.
— Пришел, дяденька, вот я пришел.
— Разбуди меня, когда устанешь.
Нельзя огню затихать. Тогда кирпич не испечется. Вся работа насмарку пойдет. Ни на миг нельзя топку без хвороста оставлять. Такое сильное должно быть пламя, чтобы языки наружу выбивались и ночь озаряли багряным светом.
Руки не слушаются. Как он ненавидел эти длинные хищные языки огня, что высовывались из злобной пасти! Совсем не оставалось сил, чтобы отойти подальше от печи, где воздух не так сух и зноен, чтобы добежать до бугорка. Теперь он вот что делает. Притащит охапку хвороста, покидает ее в печь и валится прямо на землю, тут же, у самой топки. Ночная земля — мягкая. Стоит лечь — уже не встанешь. Голову не поднимешь. Дремота наваливается. И тогда Мустафа собирает остаток сил, опять кидается на печь. Алые языки норовят облизать его, колышутся, переливаются, постепенно бледнеют, становятся оранжевыми, желтыми, бессильно лакают темноту над его головой, скользят, невесомые, летят. Еще одно усилие, еще одно. Скосил глаза на восток. Не видать еще светлой кромки над горизонтом. Обернулся к Джумали.
— Вай, — слабо позвал, — вай, Джумали, чтоб тебе!.. Джумали!..
Швырнул охапку в пламя. Грудь, руки — в ссадинах, горят, болят. Кровь только выступит — и сразу же засыхает. А светлой кромки на востоке все нет и нет. Черным пологом колышутся тополя, бугорок, языки огня, хворост, печь, холм, храпящий Джумали. Все перемешалось. Кружится земля. Укачало парня, мутит его.
— Джумали-и-и! Джумали-и-и-и-амджа!
Вскоре мастер проснулся, потянулся со смаком. Не поворачиваясь к мальчику, привычно кричит:
— Устал, Мустафа?
Ответа не последовало. Повторил вопрос. Тишина. Тогда сердито поднялся. Глянул — зияет черная печная пасть. Побелел весь, затрясся. На бегу что есть мочи пнул мальчишку ногой.
— Ах ты паршивец, недоносок окаянный! Загубил меня, нечестивец! Теперь мне платить придется за все.
Заглянул в печную утробу — немного от сердца отлегло: не совсем огонь погас, хилые язычки пламени еще лижут стенки.
Мустафа очнулся лишь на заре. Огляделся со страхом. Видит, Джумали, в распахнутой на волосатой груди рубашке, взмокшей от пота, безостановочно швыряет одну за другой охапки хвороста в печь.
— Джумали-амджа! Джумали-амджа! — робко позвал мальчик.
Мастер бросил на него злобный взгляд:
— Катись отсюда, чтоб тебя наказал Аллах! Дрыхнуть иди куда хочешь, хоть в адово пекло.
— Дя-я-я-яденька! — Не выкрик — скорее стон.
Пока солнце не вкатилось на привычное место — на вершину дальнего холма, Мустафа все сидел и сидел, выставив голову вперед, словно его за шею привязали. Не шелохнулся ни разу. Но вот солнце оторвалось от вершины холма, стало медленно взбираться выше по небосклону. Разморило паренька, голову уронил на грудь, уснул.
Печь для обжига кирпича широкая, большая, словно колодец, вывернутый наружу. Сверху купол, землей присыпанный. Кирпич при обжиге сперва свинцового цвета делается. На второй день — черным и до утра третьего дня таким остается. И вдруг пунцоветь начинает.
Только что за полдень перевалило, когда Мустафа в страхе проснулся. Попытался сразу вскочить на ноги, но не смог. С трудом приподняв тяжелые веки, глянул на печь. Хасан-бей уже пришел. С трудом поплелся к нему. Обогнув печь, заглянул внутрь. Кирпичи были как хрусталь. Как алый хрусталь. Мальчик, будто зачарованный, смотрел на это чудо, не до Хасана-бея ему было.
Хозяин приблизился к мальчику, перехватил его восторженный взгляд и улыбнулся.
— Мустафа, разве мы тебя для того сюда послали, чтобы ты отсыпался?
— Ой, да я ведь каждую ночь!..
Джумали исподлобья поглядел на мальчика.
Было жарко. В печной утробе клокотало удесятеренное полуденное пекло. Специальной заслонкой прикрыли зияющую пасть.
Мустафа побежал к речке. От воды шел нежный, ласкающий свет. Мальчик неспешно вошел в воду, провел руками по усталому, в глубоких ссадинах телу. Вышел на берег освеженный, легкий. Домой бежал — как на крыльях несся. Еще издали закричал:
— Мама! Мама-а-а-а!
Мать выскочила ему навстречу. При виде своего мальчика не смогла удержаться — запричитала, хлопает себя по коленям и все твердит:
— О-о-ой, мой малыш! Мой маленький! На кого ты стал похож!
Мустафа замер. Шагу не мог больше сделать, словно кровь в нем застыла. Лицо высохшее, худое, ободранное. Глаза ввалились.
— Мой малыш! Что они с тобой сделали?!
Обняла и увела в дом.
Наутро сын, еще теплый со сна, прильнул к матери.
— Белые брюки, мам…
— Пропади они пропадом.
— Разве мне не к лицу такая одежда?
Молча обняла сына мать, поцеловала.
Потом Мустафа отправился к Хаджи Мехмеду, присмотрел белые туфли на резине, белые носки. Потом — к Вайысу-уста.
— Мустафа, — сказал мастер, — я сошью тебе самые красивые брюки.
Лишь после этого Мустафа пошел в сапожную мастерскую. Хозяин, видимо, рано принялся за дело: шил, порол, стучал молотком. Брови у сапожника бахромой нависают над темными глазницами, длинноволосый он, сутулый. Мастерская пыльная, полуразвалившаяся, вся затянута мохнатой паутиной, пропитана запахом кожи и сыромяти.
— Хозяин, — сказал мальчик, — Вайыс-уста обещал мне пошить самые красивые брюки…
— Раз обещал, значит, сделает. Он хороший человек.
Прошло три дня, четыре, неделя. Хасан-бей не давал о себе знать. Вроде бы и не помнил о Мустафе.
— Когда ж ты расплатишься с нашим мальчиком, а? — окликнул его сапожник.
Хасан-бей приостановился, задумался. Покачал головой и говорит:
— Расплачусь.
Вытащил из кармана бумажную лиру, две монеты по двадцать пять курушей и положил на стол.
Сапожник посмотрел на деньги и говорит:
— Столько, Хасан-бей, за один день работы причитается, а мальчик работал три дня.
— Да я как ни приду, он спит, вот я и отдал его долю Джумали. А то, что сейчас дал, так это только ради нашей с тобой дружбы. Вот так.