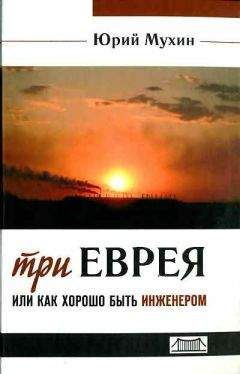Юрий Зверев - Размышления о жизни и счастье
"Брюсов, когда нужно, был декадентом, потом монархистом, славянофилом, патриотом, а кончил свою карьеру страстным воплем:
Горе! Горе! Умер Ленин!
Вот лежит он, хладен, тленен!"
Злыми характеристиками наделяет своих современников аристократ духа Нобелевский лауреат И.А.Бунин. Он был твёрд в своих убеждениях, ненавидел всё советское, никогда не гнался за литературной модой. Но, может быть, он всё же перегибает палку? Увы, в своих оценках Бунин был не одинок. Вот строчки из дневников Александра Блока:
— Литературная среда смердит…
— Брюсову всё ещё не надоело ломаться, актерствовать, делать мелкие гадости…
— Мережковские — хлыстовство…
— Статья Вячеслава Иванова душная и тяжелая…
— Все ближайшие люди на границе безумия, больны, расшатаны… Устал… Болен… Вечером напился… Ремизов, Гершензон — все больны… У модернистов только завитки вокруг пустоты…
— Городецкий, пытающийся пророчить о какой-то Руси…
— Талант пошлости и кощунства у Есенина.
— Белый не мужает, восторжен, ничего о жизни, всё не из жизни…
— У Алексея Толстого всё испорчено хулиганством, отсутствием художественной меры. Пока будет думать, что жизнь состоит из трюков, будет бесплодная смоковница…
— Вернисажи. "Бродячие собаки"…
Однако как же вёл себя с приходом Октября 1917 года сам Блок?
Бунин разъясняет мне причины смущения, которое рождалось у нас, школьников, когда нам навязывали патриотизм с помощью литературы — блоковских "Скифов" и "Двенадцати".
Мильёны — вас. Нас тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте сразиться с нами.
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы
С раскосыми и жадными очами!
Почему азиаты, да ещё "с раскосыми и жадными очами"? Кто из нас, русских мальчишек, чувствовал себя таким? Чем тут гордиться? А дальше:
Мы любим плоть — и вкус её, и цвет,
И душный смертной плоти запах…
Это наш-то народ любит смрадный дух смерти? Мы же веками были православными христианами, а не бандитами с большой дороги. Но Блок уверяет Европу, что мы привыкли "ломать коням тяжелые крестцы и усмирять рабынь строптивых".
Значит, мы ещё и рабынь захватываем? Это же чушь собачья, и голая бессмысленная литературщина. И эти смешные угрозы написаны тогда, когда разваливался фронт империалистической войны, и доблестные защитники Родины драпали, бросая позиции, братались с врагом и втыкали штыки в землю.
Будем считать, что причины революционной метаморфозы знаменитого символиста Блока были важными, например, полуголодное существование. Ведь после любовных воплей, обращённых к дореволюционной России: "О, Русь моя, жена моя!" вдруг появилась насквозь революционно-патриотическая поэма "Двенадцать".
В дневнике, сочинённом явно для потомков, он написал, что сочинял "Двенадцать" как бы в трансе, "всё время слыша какие-то шумы", шумы падения старого мира. "Слушайте музыку революции" призывал он.
Шли месяцы между февралём и октябрём 1917 года… В то время Блок был назначен членом Чрезвычайной комиссии, учреждённой Временным правительством. Комиссия занималась расследованием деятельности царских министров. Он получал 600 рублей жалования, ездил на допросы и, судя по дневниковым записям, сам допрашивал заключённых. После Октября перешёл к большевикам, стал личным секретарём Луначарского. Он написал брошюру-призыв "Интеллигенция и революция", в которой утверждал, что "в соборах толстопузые попы столетиями водкой торгуют, икая".
Поэму "Двенадцать" читали на собрании московских писателей, где присутствовал Бунин. После чтения в зале наступило благоговейное молчание. Затем раздались негромкие возгласы: "Изумительно! Замечательно!".
Но тут встал Бунин и напомнил собравшимся, какое время течёт на дворе.
"Февральскую революцию, — сказал он, — бесстыдно называют "бескровной", в то время, как число убитых и замученных ни в чём не повинных людей достигло уже миллиона. Убивают все, кому не лень: солдаты, бегущие с фронта, мужики в деревнях, рабочие и всяческие революционеры в городах. Грабят и жгут помещичьи усадьбы, в Симферополе дезертиры ходят по колено в крови. И вот нестерпимо поэтичный поэт после множества загадочных, выдуманных символистических стихов, написал нечто "понятное". Объясняя, что творится пьяной солдатнёй в голодном и холодном Петербурге, он вдруг заявляет, что все её деяния святы разрушением старой России и благословляются идущим впереди матросской оравы самим Христом".
Когда у школьника, принимающего слова учителя за истину, возникает на уроке литературы сомнения, к ним стоит прислушаться. Только никто этого не делает. А ведь они возникают от природной чистоты, оттого, что душа ребёнка ни в какой форме не принимает фальши. Блоковскую революционную фальшь поэмы "Двенадцать" Бунин вскрывает скальпелем хирурга.
Свобода, свобода,
Эх,эх, без креста!
Тратата!
А Ванька с Катькой в кабаке,
У ей керенки есть в чулке!
Что это, простонародный язык? Но почему так противно читать?
"Двенадцать", — утверждает он, — есть набор стишков, частушек, то будто трагических, то плясовых, а в общем претендующих быть чем-то в высшей степени русским, народным…
Ах ты, Катя, моя Катя
Толстоморденькая!
Гетры серые носила,
Шоколад "Миньон" жрала,
С юнкерьём гулять ходила,
С солдатьём теперь пошла?
Блок задумал воспроизвести народный язык, народные чувства, но вышло нечто совершенно лубочное, неумелое, сверх всякой меры вульгароное.
Но о чём вообще написана поэма?
Нам в школе внушали, что она — гимн революции, что Блок своим творчеством помогает бороться со старым миром.
Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнём-ка пулей в Святую Русь,
В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!
Но что же, в конце концов, получилось? В жизни бравые революционеры пальнули в царскую семью, а в поэме какой-то Петруха пальнул в Катьку. За что же? Ревность, видите ли, банальная пьяная ревность!
Стой, стой! Андрюха, помогай!
Петруха сзаду забегай!
Трахтахтахтах!
Что, Катька, рада? Ни гугу!
Лежи ты, падаль, на снегу!
Так политическая задача у Блока выродилась в пьяное тупое убийство. И это убийство независимо от воли автора становится главным содержанием поэмы.
Из-за удали бедовой
В огневых её очах,
Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча,
Загубил я, бестолковый,
Загубил я сгоряча!
Ах!
Но вдруг вспомнив о первоначальном замысле поэмы, Блок заканчивает уж совершенно бредовым пассажем, над которым сломано не только множество школьных голов, но и критических копий:
Так идут державным шагом –
Позади — голодный пёс,
Впереди — с кровавым флагом,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз –
Впереди — Иисус Христос!
В последних строчках поэмы автор совершенно запутывается в стиле повествования — псевдонародные частушки смешивает с привычными ему куртуазными символами: нежной поступью, снежной жемчужной россыпью, и венчиком из роз. В результате получается неимоверная пошлость.
И это сразу понял Бунин, который завершил свой выступление перед московскими писателями цитатой из Гёте:
Кого тут ведьма за нос водит?
Как будто хором чушь городит
Сто сорок тысяч дураков!
Бунин приоткрывает читателю истоки блоковских метаний, завершившихся трагедией: "Дед по отцу умер в психиатрической больнице, отец "со странностями на грани душевной болезни", мать "неоднократно лечилась в больнице для душевнобольных". Дневники Блока полны жалобами на страдания от вина и женщин, затем "тяжёлая психостения, а незадолго до смерти помрачнение рассудка". В заключение можно добавить, что в посмертных бумагах Блока обнаружен план "Пьесы из жизни Иисуса", по уровню богохульства напоминающий сочинения Демьяна Бедного.
Мы, читатели "разрешённой" нам в шестидесятые годы литературы Серебряного века, до сих пор трепещем перед поэтами того переходного периода. Одних восхищает их утончённая символика, других революционный пафос. Бунин даёт многим поэтам-современникам убийственные характеристики, но мне лично они помогли внимательнее отнестись к творчеству поэзии противоречивого Серебряного века.
Лишь на старости лет с помощью Ивана Алексеевича Бунина разрешились мои сомнения относительно философского богатства блоковских сочинений. А это важно для расширения кругозора человека, "больного" литературой.