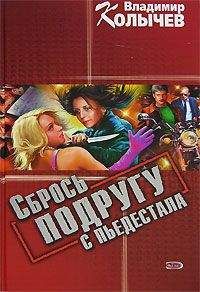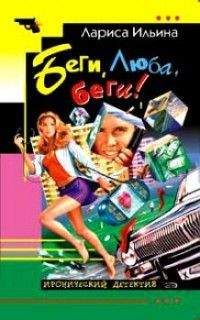Артур Филлипс - Прага
— Какая война? Война из-за этого?
— Не какая-нибудь война, а эта война. Наша война. Само ощущение этого города изменится, оно уже меняется. Это не просто конец августа 1990 года. Это последние месяцы нашего мира, кончается предвоенное лето нашего поколения. «Каково это ощущалось — лето перед войной? Ты понимал, что время кончается? Ты видел, что все это скоро сметет?» Лето перед войной.
Джон поворачивается на ходу, присматриваясь к другу.
Марк чувствует на себе взгляд, и, понимая, как звучат его слова, хочет как-нибудь успокоить друга, пусть даже его слова звучат так лишь оттого, что так ужасна истина, но не находит что сказать, и не видит, как объяснить, что это — и лето, и погибающий мир, — это он, сам Марк. И пока они не спеша идут сквозь тихий и приятный вечер, время шумит у него в ушах, несется мимо пьяным потоком машин, сверхзвуковыми поездами, стадом роняющих пену, вращающих глазами и подымающих облака пыли зверей, Он отпустил свою стражу. «Си-эн-эн»! Отчего-то он перестал бдить, следить за временем, и теперь придется платить за свое нерадение. Теперь придется сидеть грубо привязанным к столбу, в глаза вставлены расширители. Одна мысль утешает его, новая мысль: может быть, время мчит мимо не так болезненно в местах, которые не выглядят старыми, у которых нет истории. Например, в Торонто.
— Еще страдаешь с похмелья? — спрашивает Джон.
Они идут мимо отеля «Геллерт» (в котором все путеводители стандартно воспевают «увядшее великолепие», на пару недель в середине мая сделав «Геллерт» Марковым любимым пастбищем на Будайской стороне) в первом отчетливом прикосновении вечера, когда сырость испаряется под прохладным вздохом ветерка, и вдруг Марк закусывает губу и говорит, что неважно себя чувствует, и прежде чем Джон успевает что-нибудь толком выговорить, канадец разворачивается и шагает обратно вверх по Геллерту к своей квартире.
XV
Имре выбрал для встречи маленькую чумазую кофейню, попахивающую хлоркой и мокрыми кошками: загадочный, по мнению Чарлза, — намеренно странный выбор места действия.
— Сравнимые бумаги я подписывал вон там, в том доме, — объясняет Имре. Он показывает через одностороннюю улицу на щербатую контору, куда вошел в день отцовских похорон, чтобы получить ржавые ключи от рассыпающегося королевства.
— Правда? Ну, вряд ли сегодня вы что-то будете подписывать. — Чарлз добывает из кожаного кейса пачку бумаг, которую ему вручил юрист вечером на празднестве в саду. Чарлз кладет бумаги на испечатанную стаканами и пожженную имитацию мрамора. — Давайте вы на досуге просмотрите вот это, а потом парафируете под всеми этими желтыми ярлычками, здесь, здесь и здесь и подпишете вот здесь. Поставите дату, потом еще раз инициалы вот здесь и подпишете заявку на тендер здесь и здесь. Кристина могла бы отвезти бумаги Невиллу в контору.
— В этот день юрист отца стал моим юристом, понимаете. Это был очень странный момент. — Имре прихлебывает кофе и, к удивлению Чарлза, задумчиво извлекает из внутреннего кармана сигарообразное перо. — Я, конечно, знал, что этот час настанет. Я должен был выждать годы, чтобы этот день пришел. И тем не менее, всегда немного неожиданно, когда это бывает.
Чарлз, не думая, соглашается.
— Но вам разве не нужно время, чтобы просмотреть бумаги?
— Да, да.
Имре постукивает зачехленным пером по страницам, но смотрит по-прежнему через пыльное обрызганное солнцем стекло куда-то через дорогу. Тыкает вилкой пирожное, и по растревоженной поверхности янтарной карамели пробегает трещина.
— Вы сейчас в похожем положении, как я был тогда; это замечательно.
— Конечно.
Чарлз оформляет лицо в согласии с Хорватовой мелодрамой.
— Как я мог быть счастлив в такой день, я теперь не могу сказать, но я определенно был. И этот город — обломок кораблекрушения, который когда-то был гордым кораблем, — я был счастлив, что помогаю заново отстроить этот корабль. То было, правда сказать, чудесное время, чтобы жить здесь. Нынешнее не так уж отличается. Восстанавливать. Знать свою роль.
В окно Имре рассматривает здание, где когда-то хранились капиталы его семьи, и тень того июльского утра, изменившаяся за годы скитаний, является ему. Он помнит зримую важность, что наполняла комнату. Отцовский юрист колебался: справится ли молодой человек с выпавшим ему случаем? Акт подписи ощутимо преобразил Имре: самый его росчерк стал переездом через незримую границу — путешествием от левого края пустой строки к правому, оставившим за Имре черный путаный след. Черная закорючка чернил и завершающий рубящий выпад черточки над «Horváth» — ´ — стали для него символом чего-то важного и большого. Каждый, кто был в комнате, это понял.
Чарлз не в первый раз досадует на сходство своего и Хорватова костюмов: сегодня утром оба в светло-табачной сарже, только у Имре пиджак двубортный. Чарлза всегда злит, если кто-то в комнате одет похоже на него. Это предполагает убывание его рыночной ценности — из-за неуникальности — и заставляет его чувствовать, будто он говорит с ребенком, который только что научился передразнивать.
Имре встает из-за стола и идет к окну, где перевернутые буквы, застарелая паутина и сгустки пыли бросают тени на его лицо. Он рассеянно держит в руке вилку, оставив перо на столе вместе с договором о партнерстве и приватизационной заявкой.
— Погоду помню, отчетливо. Солнце, редкие облака, ужасно жарко. Я почуял что-то плохое во дворе конторы — старый мусор на жаре. На отцовском юристе были брюки, сшитые из старых лохмотьев. Мы все так ходили в те дни, хотя некоторые носили это лучше остальных, вот именно вам я могу сказать. Самый важный день твоей жизни, чудесный момент, но понимать это в ту минуту, когда все происходит, будто Сам Бог держит тебя на ладони. Я понимал важность, что человек Имре становится теперь второстепенным по отношению к будущему этого. Так же и вы… Вы это усваиваете. — Имре говорит спиной к молодому собеседнику, уставившись в окно на потемнелую бурую кирпичную кладку на той стороне улицы. — Каждый из нас вместе — оооо, послушайте. Покажите мне, где подписать, и закончим с этим.
Но все же не отрывается от окна.
— Иисусе милосердный, со всякими взбрыками и странными вывертами, но дело сделано, — рассказывал Чарлз Джону в тот же день, вручая тонкий голубой чек, легкий полупрозрачный эквивалент семимесячного жалованья в «БудапешТелеграф». — После всего этого он едва смотрел, что подписывает. Так, поспрашивал про разные пункты наугад. Но в глазах туманилось от воспоминаний, когда я показывал, где ставить инициалы. Как, черт подери, ему удавалось хоть чем-то сорок лет управлять, это выше моего понимания. Да, я тебе говорил, что двое из инвесторов цитировали мне же твой очерк обо мне, когда подписывались?
Джон щурится и подставляет чек под дождь слепящих пламенных стрел, взлетающих с реки и сыплющихся в кабинет Табора. Бумага отбрасывает легкую синюю прямоугольную тень на глаза и нос Джона. Водяной знак — две сирены, целующие в щеки удивленного моряка, чьи рот и глаза — идеальные «О» изумления, — исчезает и появляется, когда Джон двигает листок вперед-назад между собой и светом.
— Я буду скучать по этому виду, — Чарлз припечатывает ладони к гигантскому окну. Он преуспел, скоро увольняется и откроет своей беспомощной вялой фирме, что в свободное время осуществил то, чего они не смогли проделать на работе. Он выудил достаточно средств из карманов разных денежных миссионеров, и с неожиданными инициалами Имре нынче утром этот консорциум стал держателем 49 процентов акций (с оставшимися у Чарлза полными 49 процентами голосующих акций) новой венгерской компании, объединившей «Хорват Ферлаг» (из Вены), Чарлзово значительное вливание инвесторских денег и приватизационные чеки Имре Хорвата (не бог весть какой подарок, просто жест гордого, но нищего правительства). В последний момент Габор велел своему юристу добавить в активы компании практически не имеющие ценности ваучеры, выданные Чарлзовым родителям за их детские квартиры. Теперь он был весьма влиятельный младший партнер в настоящем деле.
Два дня, однако, Джон не обналичивал свой чек — плату за «консультации по взаимодействию с прессой» — и не отправлял в свой банк в Штатах. Что-то не давало ему этот чек депонировать; слишком внезапное расставание с водяным знаком, шутил Джон сам с собой, к которому он еще не готов. Две ночи сирены целовали моряка, а Джон их разглядывал. Два дня он носил бумажку в кошельке и в странные моменты — набирая статью в редакции, бражничая в «Гербо», трахаясь с Ники, — представлял, как водяной знак — двумерный, бледный, текучий — оживает в его кармане: развевающиеся волосы сирен, мягкие губы на щеках обалдевшего мореплавателя, желание моряка стиснуть обеих в аквакарнальном объятии, спорящее с его знанием об их силе, его неизбежная капитуляция.